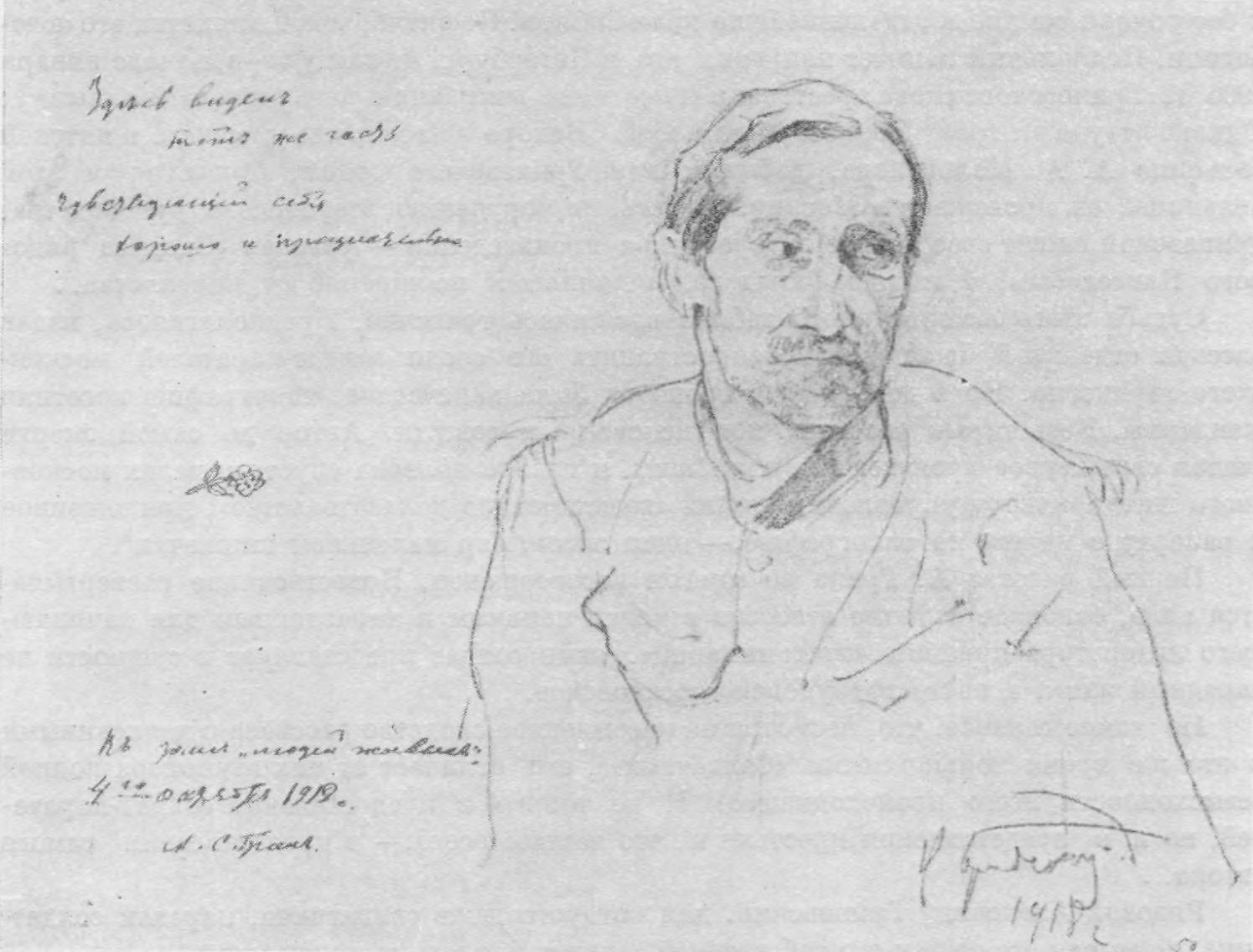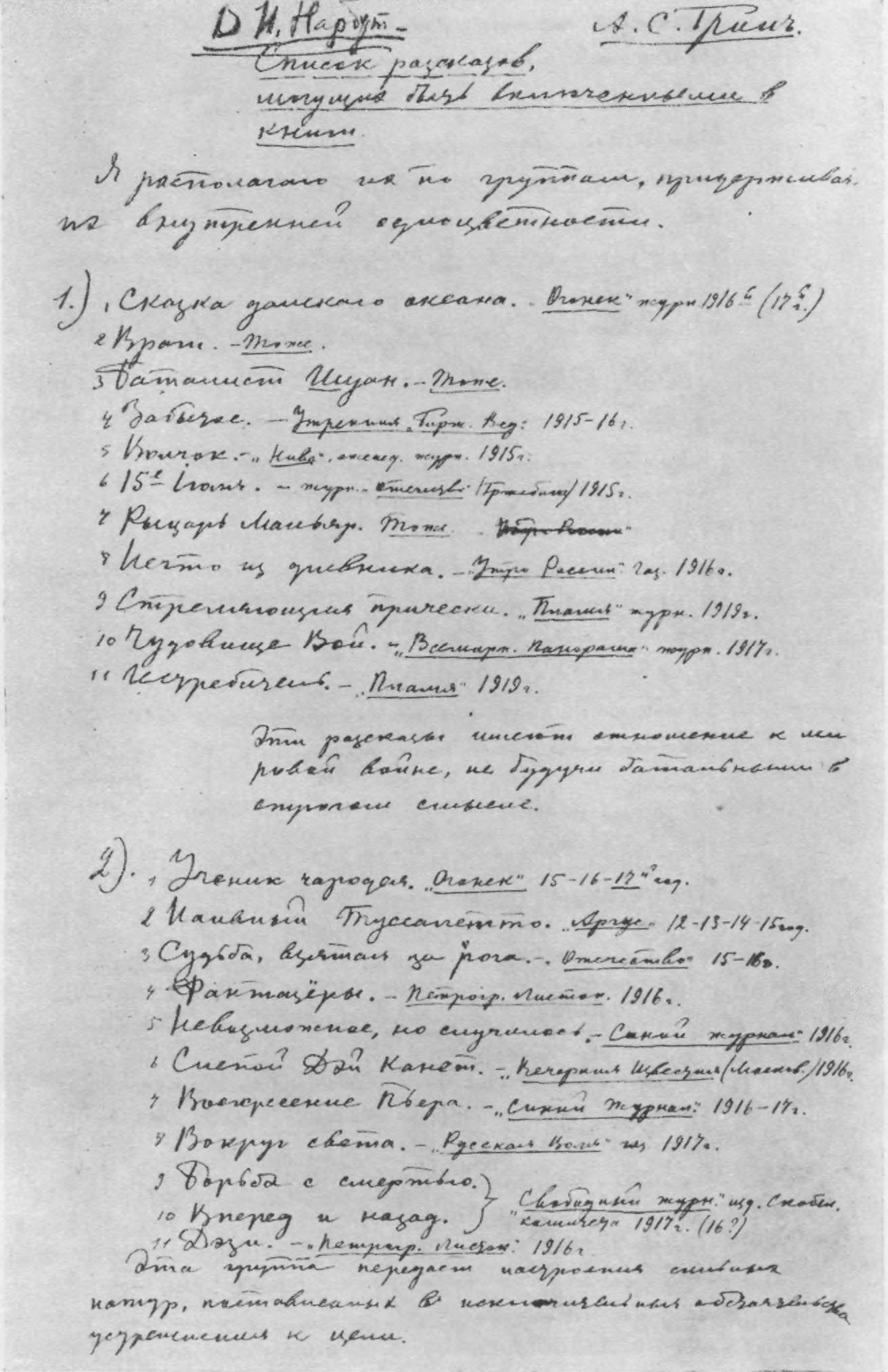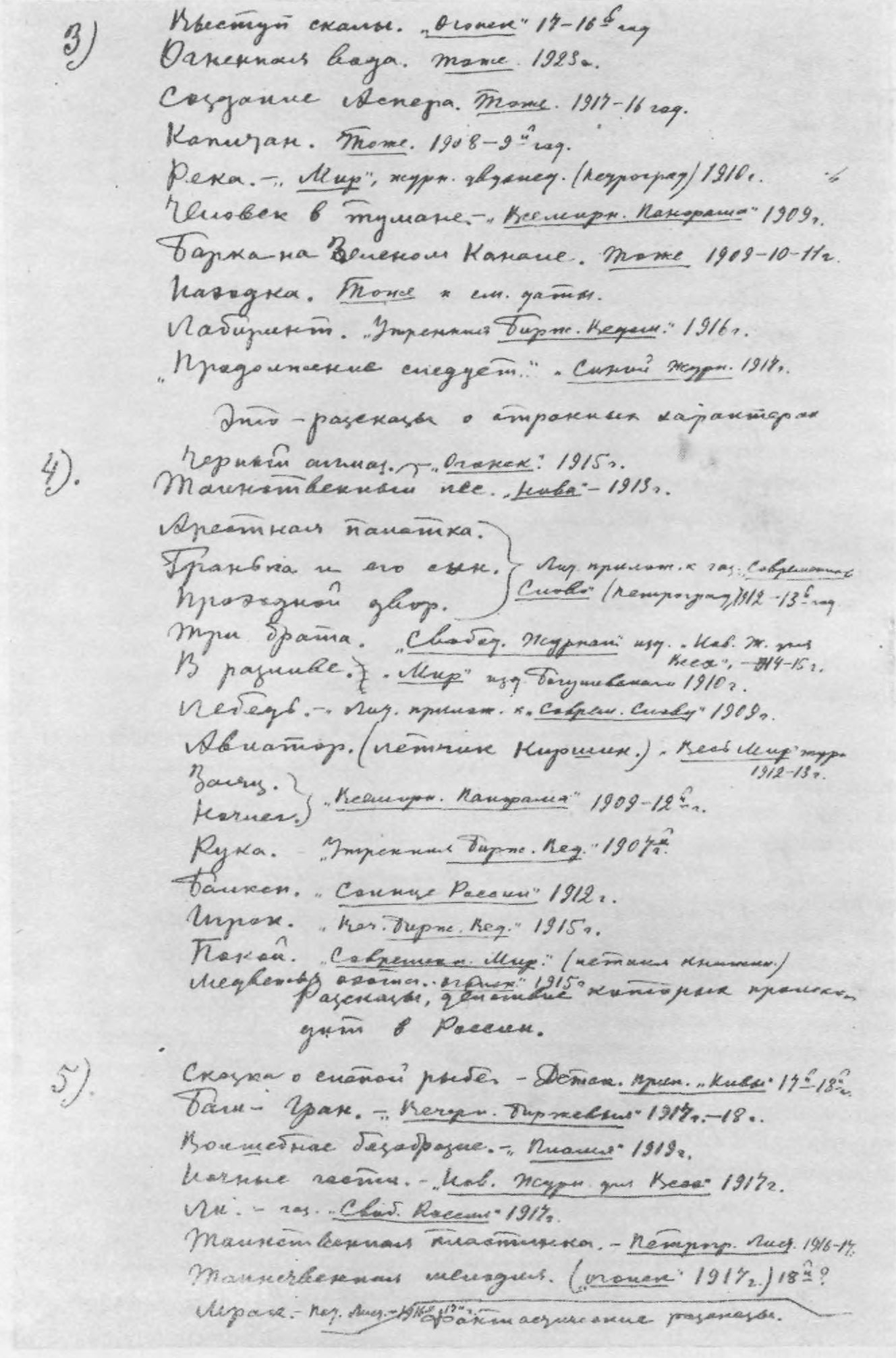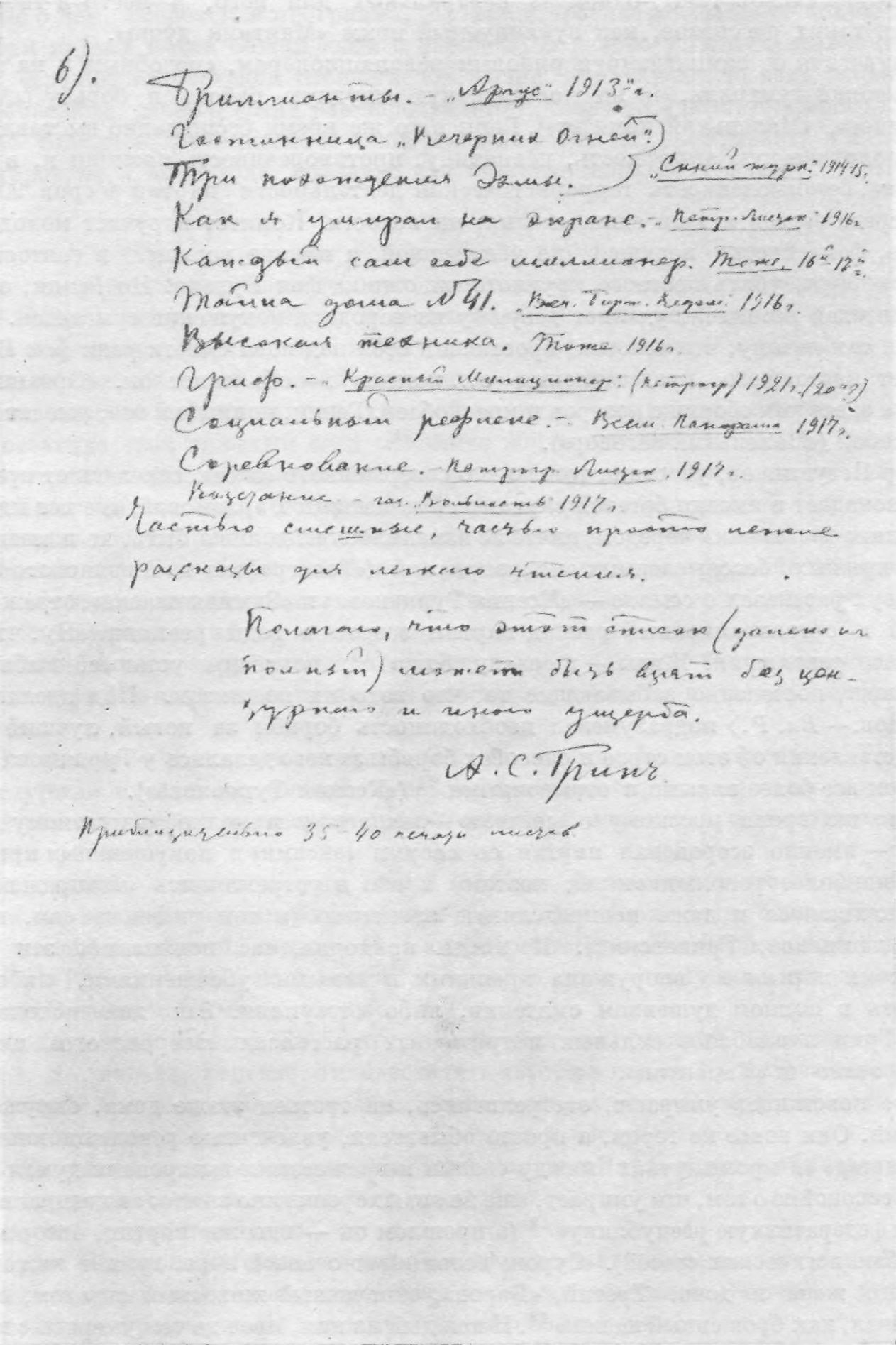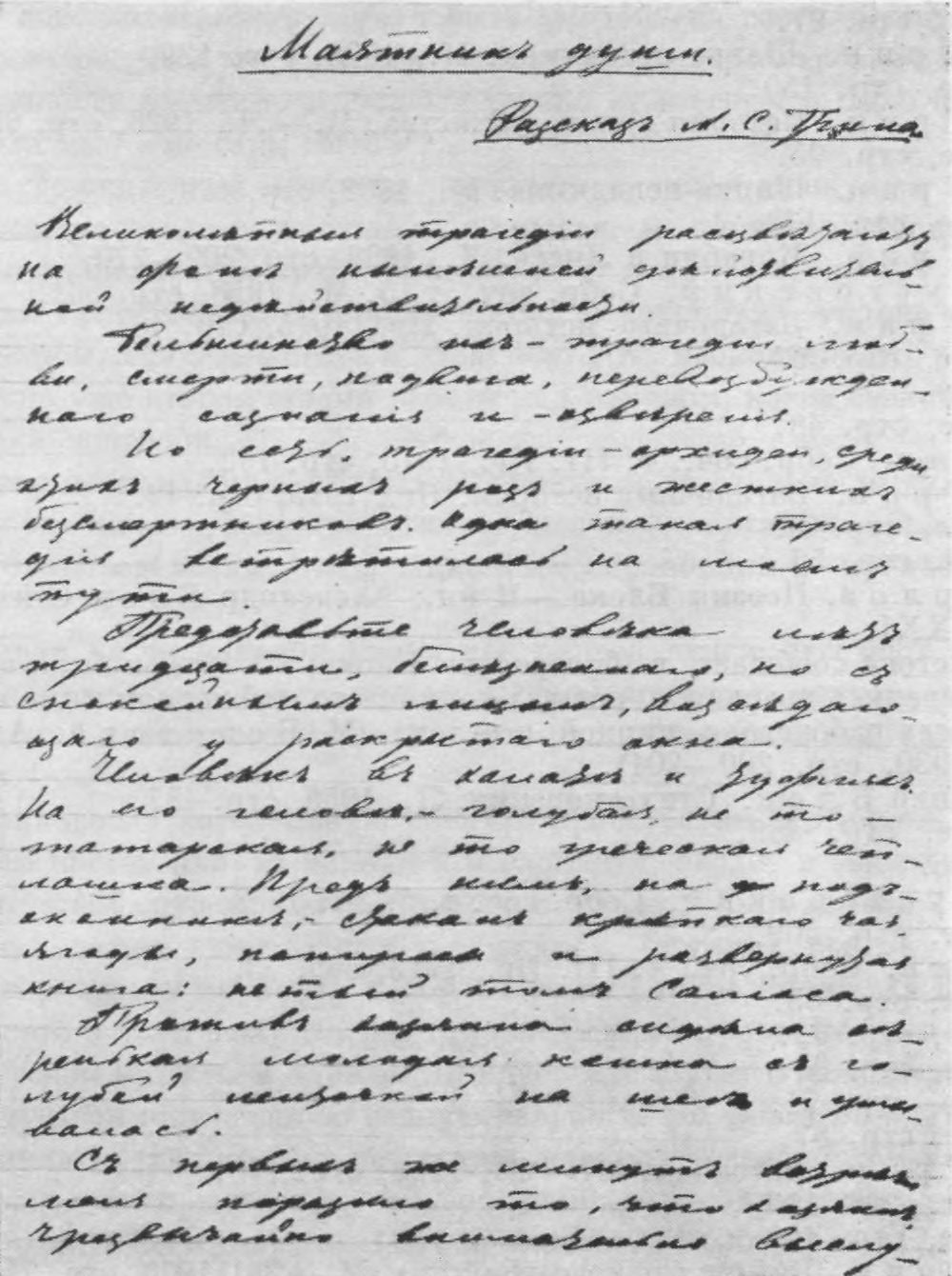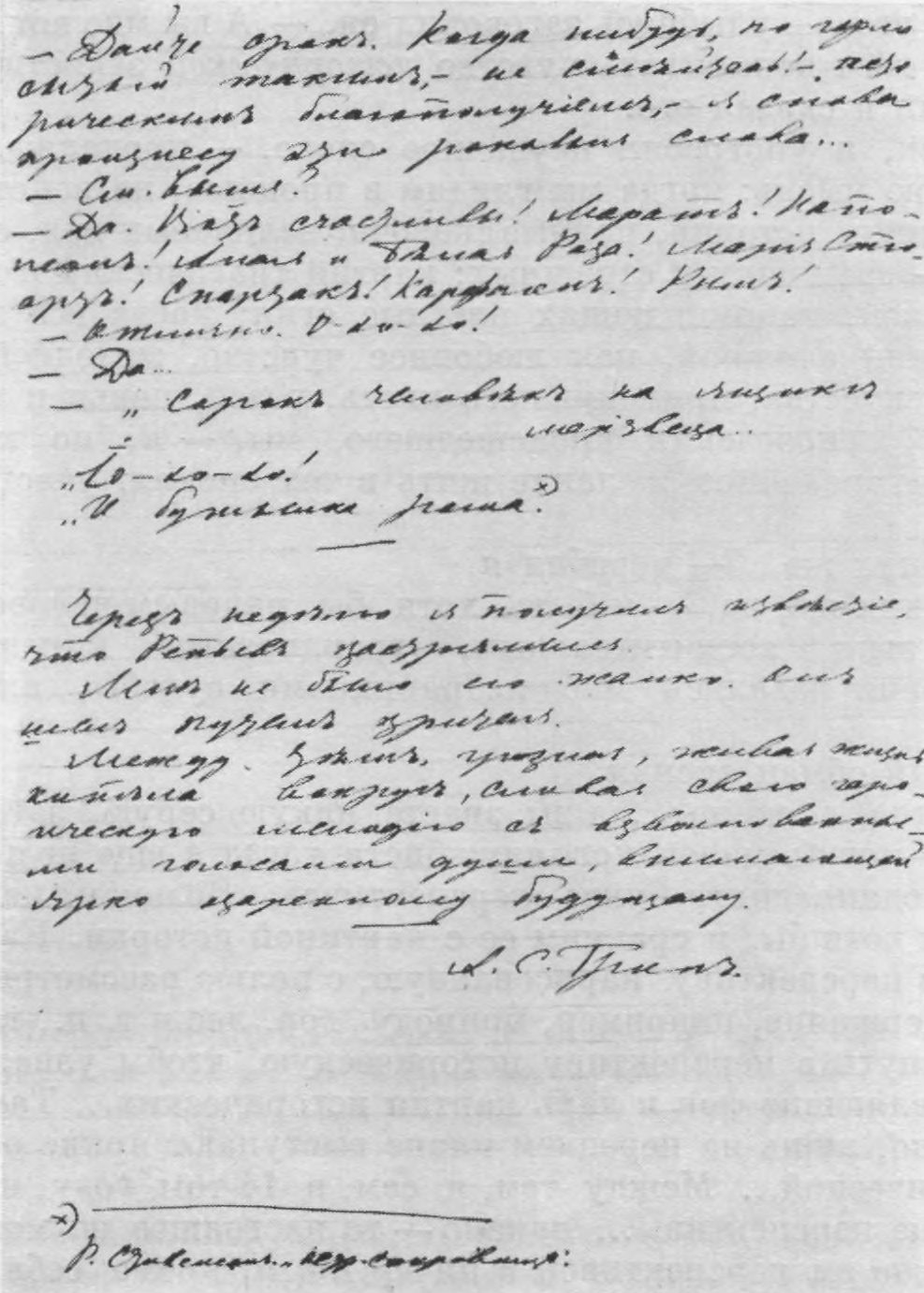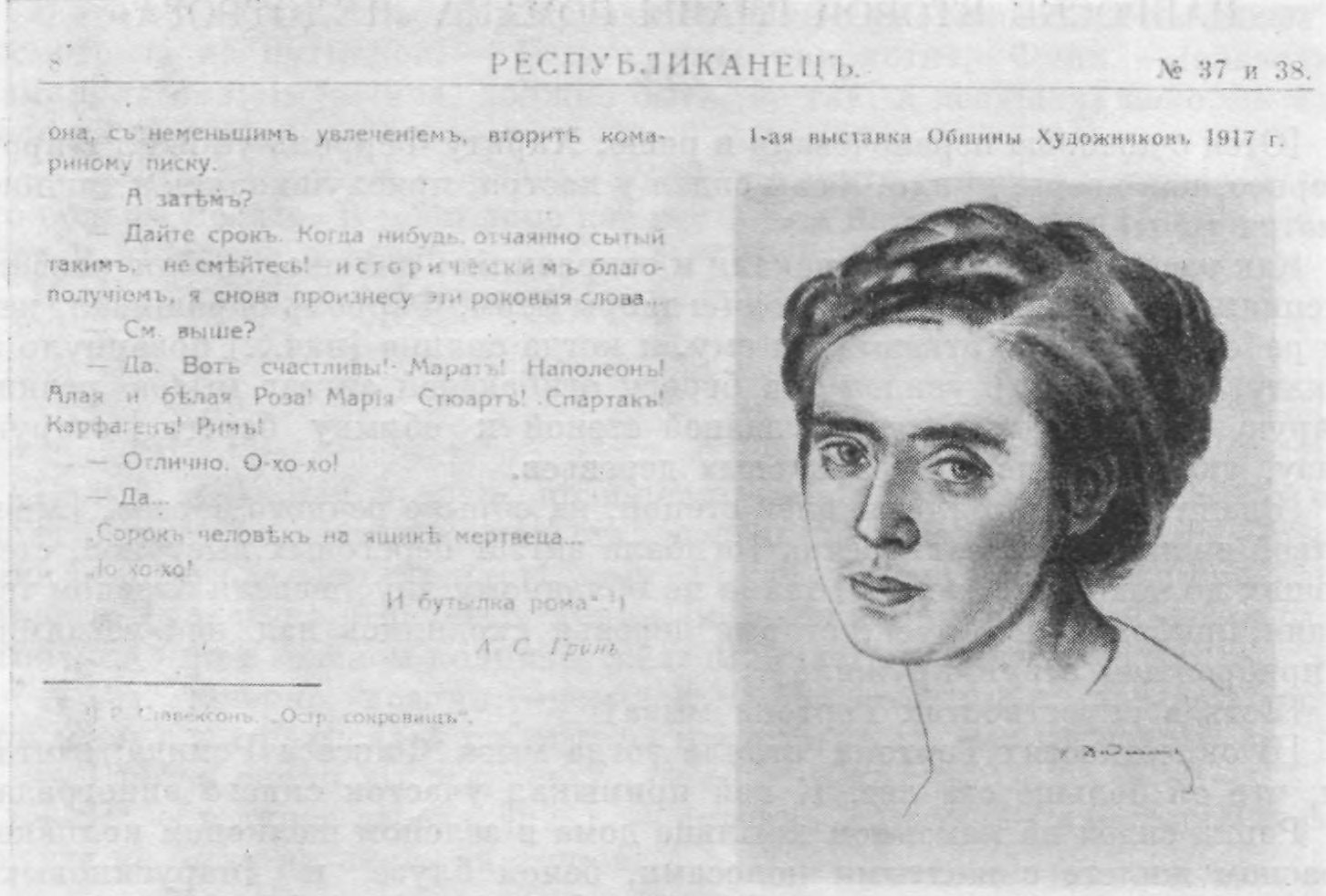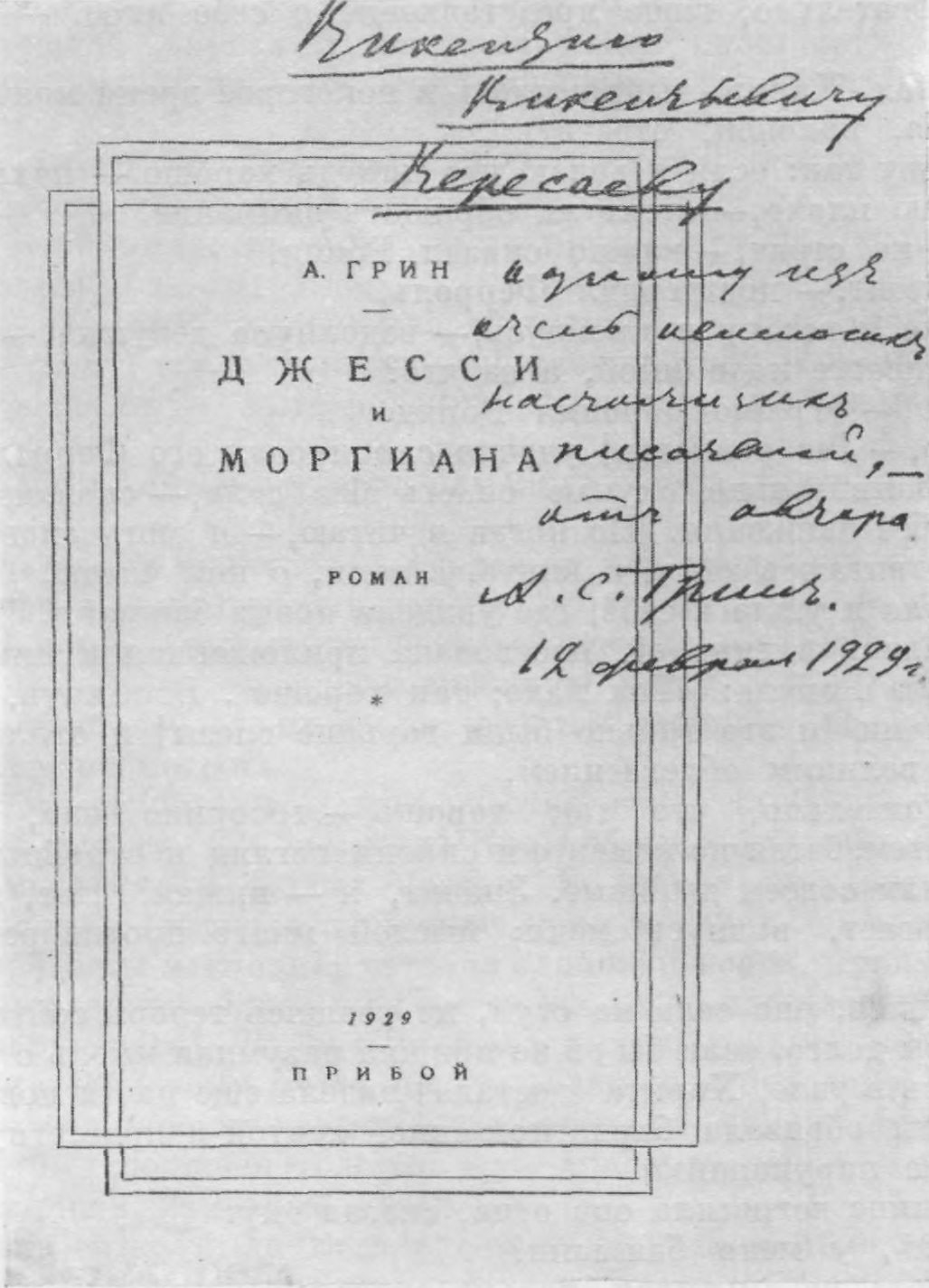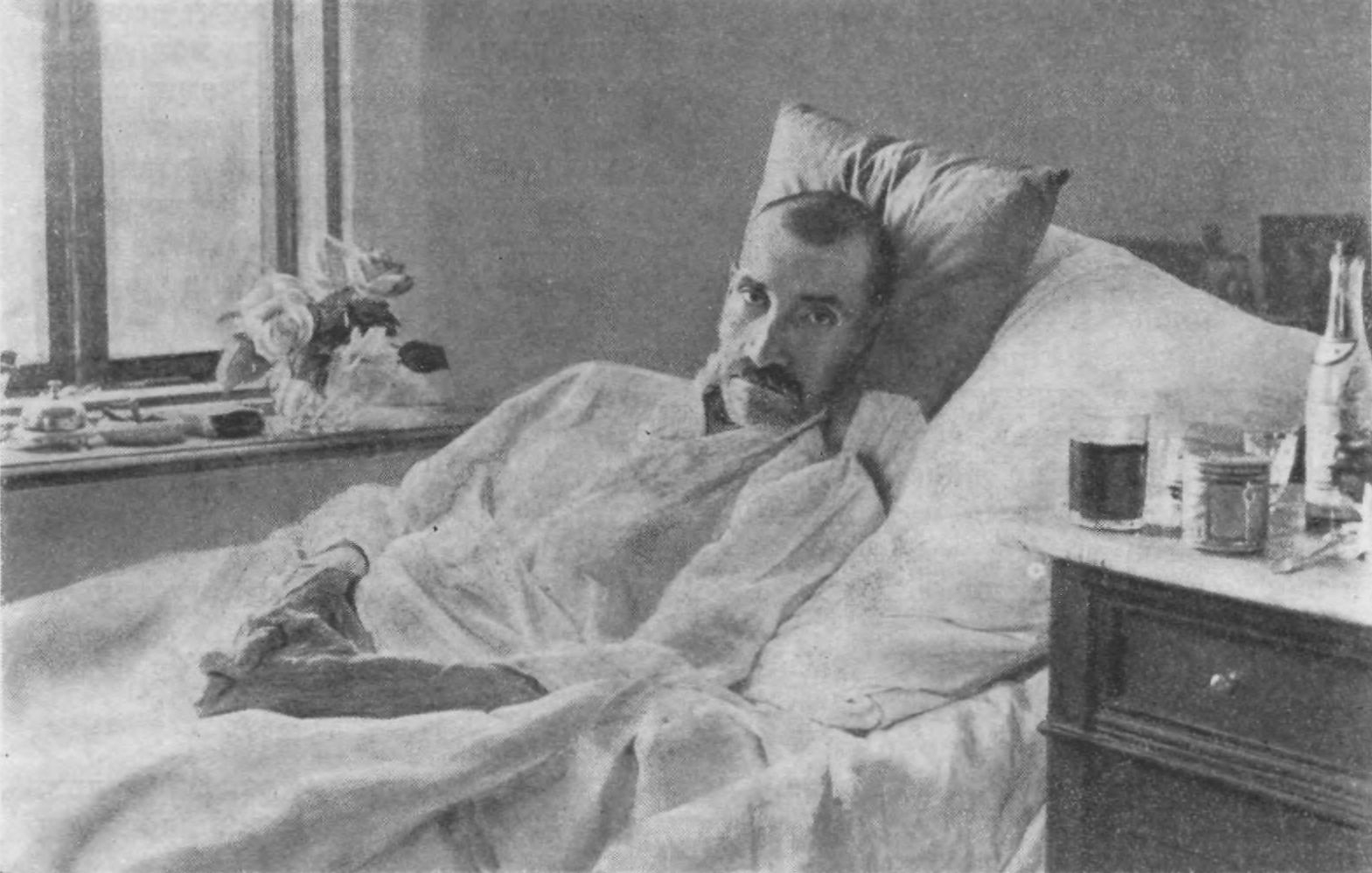|
|
В. Россельс. «А. Грин» (Из неизданного и забытого)«Литературное наследство». — М., 1965. — Т. 74. — С. 644. Мечта разыскивает путь, — Закрыты все пути;
А. Грин 1Книги избранных произведений А.С. Грина выходят почти ежегодно. Состав их стереотипен: либо это одни романы и повести, либо «Бегущая по волнам», «Алые паруса» и пятнадцать-семнадцать рассказов, всегда почти одних и тех же. За тридцать с лишним лет, прошедших со дня смерти писателя, опубликовано в Советском Союзе около двух десятков его книг, в тринадцать из них включены рассказы, и повсюду, с небольшими изменениями, перепечатывается один и тот же комплект, не превышающий, в общей сложности, двадцать шесть названий и лишь в последние годы возросший до сорока. Между тем при жизни Грина опубликовано около четырехсот произведений писателя. Не все в этом наследии равноценно. Были годы (1915—1917), когда материальная нужда заставляла этого неустроенного, житейски неприспособленного человека публиковать еженедельно в реакционнейшем бульварном филиале «Биржевых ведомостей» — журнальчике «20-й век» — дешевые поденки, порою и шовинистического толка. Но в эти же годы напечатано несколько хрестоматийных новелл, которые переходят из однотомника в однотомник («Сто верст по реке», «Искатель приключений», «Капитан Дюк», «Возвращенный ад», «Вокруг света», «Борьба со смертью»), и еще много десятков великолепных, доныне неоцененных критикой рассказов, вполне достойных занять место рядом с перечисленными и с теми, что были написаны позже. Опубликованные библиографии произведений Грина чрезвычайно неполны и содержат множество неточностей1. Пока остается в рукописи библиографический труд, составленный энтузиастом-книжником, поклонником творчества А. Грина, А.М. Гурвичем и непрерывно пополняемый разысканиями В. Сандлера и автора этих строк (хранится в Гос. библиотеке СССР им. В.И. Ленина). На 1 февраля 1965 г. в нем насчитывается уже 360 названий только рассказов Грина. Эта цифра наглядно показывает, как много несобранного и незаслуженно забытого в творчестве этого своеобразного мастера «поэзии воображения». «Незаслуженно забытого»... Но так ли это? Многие литературоведы держатся иного мнения. Если судить по месту, которое отвела А. Грину литературная наука, он прошел по истории литературы «стороной, как проходит косой дождь». В трехтомной «Истории русской советской литературы» он удостоен лишь мимолетного, снисходительного упоминания. Там сказано, что «гуманистический романтизм» А. Грина «находил себе место в советской литературе и до сих пор привлекает к себе читателя»2. Правда, в дальнейшем оказывается, что на двух крупных представителей романтического направления советской литературы — К. Паустовского и Э. Багрицкого — Грин оказал огромное влияние и ему уделено значительное внимание в статьях об этих писателях, но этим лишь подтверждена «косвенность» творчества Грина в литературном процессе. Влиял на писателей? Да, он был непревзойденным мастером сюжета, очень своеобразным стилистом, в какой-то мере пролагателем новых путей психологической прозы. Но от аналогии с судьбой, скажем, Велимира Хлебникова в русской поэзии нас удерживает необыкновенная популярность Грина у читателя, которого он, в самом деле, «до сих пор привлекает к себе». Хлебников были остался поэтом для поэтов, Грин был и остается писателем для читателей. Именно об этом живом интересе читателей, особенно молодых, к творчеству Грина писали А. Фадеев и Ю. Либединский в издательство «Советская литература» 8 марта 1933 г.: «Обращаемся в издательство с предложением издать избранные произведения покойного Александра Степановича Грина. Несомненно, что А.С. Грин являлся одним из оригинальнейших писателей в русской литературе, многие книги его, отличающиеся совершенством формы и столь редким у нас авантюрным сюжетом, любимы молодежью»3. С тех пор прошло более тридцати лет. Немалый срок для проверки временем. И что же? Сегодня имя Грина во много раз более популярно, чем тридцать лет назад. То и дело выходят его книги, ставятся фильмы, готовятся собрания сочинений. «Комсомольская правда» свою ежемесячную тематическую страницу, посвященную романтике, назвала «Алый парус». Клубы молодежи под этим же названием существуют уже во многих городах СССР. В чем же сила, обаяние и значительность его творчества? Значительность творчества этого художника слова крайне важно понять, ибо чаще всего именно она подвергалась сомнению. «Гражданин рыцарь интересного» — так в шутку расшифровал псевдоним Грина Л Борисов, автор биографической повести о нем («Волшебник из Гель-Гью»). И многие, слишком многие ценители его произведений приняли эту характеристику всерьез. А все было сложней и глубже. 2Двадцатидвух лет, не оправдав упований отца, таки не научившись «жить, как все», нескладный, слабогрудый и тощий юноша идет добровольцем на военную службу. Позади — босячество, скитания по матросским ночлежкам Одессы и Севастополя, Баку и Астрахани, по медвежьим углам средней России, Урала. В этой жизни много было нужды, невзгод, лишений, очень мало человечности, доброты. Жестокие условия борьбы за существование в среде босяков еще обострены разобщенностью, моральной изоляцией друг от друга и полной бесперспективностью, бессмысленностью полуживотного существования. Об этом хорошо известно из написанной Грином много лет спустя «Автобиографической повести». Всем этим жизнь отвечала юноше на неукротимые поиски героического, на мечту о прекрасном гармоническом мире, полном подвигов и приключений. Эта мечта жила в нем с детства. Четырех лет ребенок неожиданно сложил из букв первое слово — и слово это было «море». К девяти он уже зачитывался книгами Купера, Эдгара По, Жюля Верна. В десять — бродил по вятским лесам, обуреваемый предвкушением неведомого, жаждой «искать и неожиданно находить». В шестнадцать, увидев берега Крыма и южные города, он мысленно населил их героями своих будущих фантазий, а четыре года спустя уже делился этими фантазиями с уральцем-лесорубом, неутолимым любителем сказок. Банальное «несоответствие мечты и действительности» в биографии юноши выросло в антагонизм, в невозможность найти себе место в жизни, определиться. Вот почему отец Александра Гриневского, в прошлом революционер, участник польского восстания 1863 г., а в то время — скромный вятский чиновник, так надеялся на военную службу. Она призвана была «выправить» характер сына. А.С. Грин. Рисунок И.И. Бродского (карандаш) в альбоме Н.Г. Шебуева. 1918 г. Надпись рукой Грина, сделанная для владельца альбома: «Здесь виден тот же гость, чувствующий себя хорошо и признательно. В доме „людей живых“, 4-го октября 1918 г. А.С. Грин». Центральный архив литературы и искусства, Москва «Военная служба вместо ожидаемого равновесия вызвала в Александре Степановиче чувство возмущения. Он бунтовал против насилий солдатчины. Из девяти месяцев солдатчины он почти три с половиной просидел в карцере. Александр Степанович хорошо стрелял, и фельдфебель часто говорил ему: „Стрелок ты, Гриневский, хороший, а солдат — плевый“. Вскоре Александр Степанович сблизился с вольноопределяющимся Николаем Павловичем Студенцовым, социалистом-революционером (эсером), прочел "Солдатскую памятку“ Толстого и другие революционные книги. И был потрясен новым, другим, доселе невиданным и доселе неподозреваемым миром борьбы с насилием, открывшимся перед ним. Ему самому, уже крепко и крепко битому жизнью, была особенно понятна ненависть к существующему режиму. Он с радостью согласился на предложение Студенцова разбросать пачку прокламаций во дворе казармы. И сделал это. Вскоре Александр Степанович стал партийным»4. Для него это было желанным способом слить мечту с действительностью, способом активной борьбы за прекрасный гармонический мир, борьбы, в которой ему — Гриневскому — обеспечено место в ряду сражающихся. Так начался эсеровский период в биографии Гриневского. Начался в 1902 г. в продолжался (с перерывами на пребывание в тюрьмах и ссылке) около четырех лет. Отдавшись революционному делу беззаветно, он бежал из батальона, перешел на нелегальное положение и вел пропагандистскую работу в Саратове, Тамбове, Екатеринославе. Затем через Киев и Одессу его переправили в Севастополь, где он выступал среди моряков и солдат крепостной артиллерии. Там 11 ноября 1903 г. он был арестован и два года спустя, весной революционного 1905 года, приговорен военным судом к бессрочной ссылке в отдаленнейшие края Сибири. По октябрьской амнистии его освободили. Подпольный комитет направил его в Петербург, но там уже в начале января 1906 г. Гриневского снова арестовали и без суда отправили на четыре года в ссылку. Однако оттуда он сразу же совершил побег. Вскоре с паспортом умершего в вятской больнице А.А. Мальгинова, добытым для Гриневского отцом, бухгалтером этой больницы, он приезжает в Москву. И здесь, по поручению эсеровского руководства, Гриневский пишет свое первое литературное произведение — рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», о солдате-карателе, получившем поощрение от начальства. Судьба этого литературного дебюта сложилась трагично. Предполагалось, издав рассказ отдельной брошюрой, распространить его среди солдат-карателей московского гарнизона. Но в день, когда брошюра была напечатана, типографию посетили жандармы. Весь тираж рассказа конфисковали и сожгли. Автор до самой смерти считал свое первое произведение погибшим, и только полвека спустя в делах московского жандармского управления нашли «вещественное доказательство», приложенное к рапорту о налете на типографию, — один экземпляр маленькой книжечки5. Первый рассказ А. Грина во многом несовершенен. Повествование развертывается вяло, основное событие отнесено в конец наивным и характерным для начинающего литератора приемом «воспоминаний», язык солдат представляет в сущности не народный язык, а нечто горбуновско-посадовское. Но самое главное, что, несмотря на несомненное сходство рассказа с написанными в это же время горьковскими «Солдатами»6, его отличает от них атмосфера полной безысходности всего происходящего. И не только в представлении солдат-карателей, но и в представлении крестьян и, что важнее всего, — в представлении самого автора... Рядовой Александр Гриневский, для которого даже солдатчина, царская солдатчина, по мысли его отца и его собственной, представлялась выходом из мрака голодной безысходности и бесприютности, услышал первое революционное слово из уст эсера. Но эсеры — партия, прославившаяся именно в эти годы своей теоретической беспринципностью, заведомо группирующая вокруг себя «всякие неопределенные, неопределившиеся и даже неопределимые элементы»7, — не внесли в его голову никакой ясности относительно политического положения в стране. Зато писателю А.С. Грину, зоркому и тонкому психологу-наблюдателю, прошедшему суровую школу жизни в гуще народа, к 1906 г. многое уже стало ясно относительно самой партии эсеров. И ей он вынес беспощадный приговор первой же своей книгой «Шапка-невидимка»8, написанной как раз в 1906—1907 гг. 3Об этой книге Грина почти не писала критика. А между тем в русской литературе нет более яркого и правдивого изображения эсеровщины, чем рассказы из «Шапки-невидимки»: «Марат», «Подземное» («Ночь»), «В Италию», «Гость», «Карантин» и примыкающие к ним произведения 1908—1913 гг.: «Третий этаж», «Маленький комитет», «Телеграфист из Медянского бора», «Маленький заговор», «Ксения Турпанова», «Приключения Гинча», «Рассказ о страшной судьбе», «Трагедия плоскогорья Суан», «Зимняя сказка», «История Таурена», «Дьявол Оранжевых Вод», «Мертвые за живых». Свидетельства писателя, наблюдавшего эсеровщину той эпохи изнутри, глазами участника движения, могут служить яркой иллюстрацией ленинских оценок эсеровской партии в этот период. Без анализа этого этапа литературного пути Грина невозможно понять эволюцию антимещанской темы, одной из центральных для него, и место в творчестве писателя таких рассказов, как публикуемый ниже «Маятник души». Сочувствуя и симпатизируя рядовым революционерам, способным и на подвиг, и на высокий гуманизм, и на повседневную трудную работу и борьбу («Марат», «Подземное», «Маленький комитет»), Грин в то же время беспощадно выставляет напоказ политическую аморфность, невнятицу, противоречивость позиции и, в конечном счете, бессмысленность террористической деятельности партии эсеров 900-х гг. В среде эсеров нет ни единомыслия, ни ясности. Комитет поручает молоденькой девушке, фанатически верящей (не убежденной, а именно верящей) в святость доктрины террора, убить местного крупного чиновника фон Бухеля. Но Геник, один из руководителей комитета, удаляет девушку из города, и покушение срывается. «А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон Бухеля, не имеет настоящего представления о... жизни»9, — объясняет он. «Организация» показана здесь как сборище позеров и краснобаев. Геник, понявший это, решает покончить с собой («Маленький заговор»). Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 1. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 2. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Список рассказов А.С. Грина (составлен писателем). Автограф, лист 2 об. Середина 1920-х годов. Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Москва Эсер Петунников, участник только что совершенного «экса», спасаясь от преследований, попадает в имение богатой скучающей помещицы Варламовой, где все идет своим тоскливо-мещанским чередом, ничто не изменилось и, должно быть, не изменится от этих не нужных, бессмысленных экспроприаций («Телеграфист из Медянского бора»). В двух рассказах о ссылке — «Ксения Турпанова» и «Зимняя сказка», отражающих идейный и организационный распад партии эсеров в годы реакции («Ну, что там? Какая еще революция? Живы — и славу богу»)10, показаны усталые, выбитые из колеи люди, постепенно забывающие то, что вело их по жизни. «Под идеалами он (Турпанов, — Вл. Р.) подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными»11 («Ксения Турпанова»). В то же время русскому обывателю — мещанину и мелкобуржуазному интеллигенту — именно эсеровская партия со своими «эксами» и покушениями представлялась наиболее революционной, поэтому в нее и устремлялись «неопределенные, неопределившиеся и даже неопределимые элементы» (в том числе и сам, вышедший из люмпенов, Гриневский). И когда приходил час испытаний, эти люди, которых их партия не вооружила крепкими и ясными убеждениями, либо шли на смерть в полном душевном смятении, либо отступали. Эти два исхода изобразил Грин в наиболее сильных и трагичных рассказах «эсеровского» цикла — «Третий этаж» и «Карантин». Трое повстанцев умирают, отстреливаясь, на третьем этаже дома, окруженного солдатам. Они вовсе не герои, а просто обыватели, увлеченные революционным вихрем. «Мистер» «в промежутках между своими и вражескими выстрелами думал торопливо и беспокойно о том, что умирает, еще не зная хорошенько за что: за централизованную или федеративную республику»12 (в прошлом он — идеолог партии, автор множества публицистических статей). «Сурок» вспоминает о своей норе, домике за городом, где у него жена и дочь. Третий, «Барон», охваченный животным страхом, плачет, «взвизгивая, как брошенный щенок»13. И каждый из них, прежде чем умереть с криком «За свободу!», трижды внутренне отрекается и от свободы и от революции, снедаемый мучительным ужасом смерти. Таков «Третий этаж», — рассказ, написанный в 1907 г. А вот «Карантин» — повествование об отступнике. Человеку поручен «акт». Просидев положенное время в «карантине» (в полной конспиративной изоляции, чтобы затруднить жандармам обнаружить после покушения связи террориста), он отказывается от партийного поручения. В подтексте — бессмыслица самого поручения и — это важнее всего — полный отрыв эсеров от народа, их политическая изоляция, «карантин» в широком смысле слова. Карантин перед покушением герой рассказа (его зовут Сергеем) проводит в захолустном городишке, в семье рабочего-железнодорожника. Однако с этой семьей у него нет никаких точек соприкосновения. Глядя на молодую дочку квартирохозяина, Сергей только сокрушается, что там, «откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движении, недалеких и сильных, как земля»14, но говорить ему с нею не о чем. Эсеровская программа, мутная и противоречивая, не помогала функционерам партии найти общий язык с народом. В голове у Сергея лениво движутся мысли, «враждебные зеленой тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие жалкие калеки»15. 4Не следует игнорировать то, что гриновские рассказы об эсерах в те годы (1908—1913) в известной мере развенчивали во мнении широкого читателя не только эсеровскую партию, но и революционное движение вообще. В какой-то степени это отражало и душевную драму самого писателя. Грин жестоко осудил партию, которой он отдал четыре года жизни. Но и эсеровщина оставила свой тяжелый след. Надежда войти в жизнь, в борьбу, осмысленную и целеустремленную, оказалась тщетной. Эсеровская среда несла на себе печать мещанской ограниченности, с которой Грин сталкивался еще в родной Вятке, а идеалы эсеров оказались оторванными от народной жизни, их «мечта» тоже не соединялась с действительностью. Зерна сомнений и разочарований упали на подготовленную почву, и настроения мизантропии, эгоцентризма, взращенные еще босяческими скитаниями, запечатлелись на страницах первых гриновских рассказов. Революция, на которую писатель смотрел тоже в какой-то мере сквозь призму эсеровских теорий и воззрений, потерпела поражение. Дышать в России становилось все трудней... «Карантин» — рассказ в значительной степени автобиографический.. Грин начал литературный путь с израненной душой, написав на первых порах на своем знамени лозунг воинствующего человеконенавистничества, отщепенства, эгоцентрической замкнутости. «Революция — какое могучее слово. Конечно, он взялся за нее не потому, чтобы верил в спасительность республиканского строя. Нет! Люди везде скоты. Но в ней так много жизни, движения, подъема»16. Так охарактеризован самый молодой из героев рассказа «Третий этаж», «костлявый, длинный юноша с голубыми глазами»17, напоминающий своим обликом... автора. «Люди везде скоты»! Да, это сказано в годы реакции (рассказ написан в 1907 г.). Да, нельзя, конечно, отождествлять автора и героя. Но нельзя не заметить и того, с какой болью и негодованием, с каким презрением клеймит писатель в своем современнике (и в самом себе) мелкотравчатость и бесхребетность. Куда же уйти от обывательского благополучия Варламовых и обывательского же позерства и мелочности эсеровских краснобаев? Где он — путь к счастью? «Дуня, Валерьян, — стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня, — мелькало и путалось в голове неровными пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью. — Жить! — сказал он негромко, прислушиваясь. — Хорошо...»18 Так думает Сергей, герой рассказа «Карантин». Этими словами заканчивается рассказ и вся первая книга Грина — «Шапка-невидимка». Аккорд как будто оптимистичен: Жить! — Хорошо... Но жизнь представляется герою (и автору) «неясной». И говорит он эти слова «негромко, прислушиваясь». К чему? К какому внутреннему решению? Это решение намечено уже в первой книге Грина. Тяжкий опыт житейских неудач подсказывал Александру Гриневскому пока лишь один выход — подальше ста людей. Красотка Дуня и эсер Валерьян равно чужды гриновскому герою, недаром они стоят здесь в одном ряду. Неистребимое жизнелюбие вело пока лишь в одно чистое убежище — в природу. Герой «Карантина» лучше всего чувствовал себя в саду, в лесу, в поле. Вот он лежит под деревом «в позе смертельно раненного человека... Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную рыхлую землю»19. Неизжитый идейный груз эсеровщины с ее теорией героя и толпы позволял видеть в обществе пока лишь одну, как казалось, реальную силу — исключительную личность. Только людям недюжинным, только выдающимся натурам доступно вырваться из болота обывательщины. Но у этой медали страшная оборотная сторона. Уйти от людей безнаказанно не дано никому. В человеческом общежитии каждый связан с другими сетью социальных и этических обязательств. Уйти можно только порвав эту сеть, поставив себя вне общества, став отщепенцем. Таким отщепенцем, трусом и ренегатом, в сущности, выглядит в глазах товарищей Сергей, герой «Карантина», уклоняясь от «акта». Подняться над этим не в силах и он сам. Он в глубине души признает свой поступок аморальным, эгоистическим. Однако до воинствующего аморализма ему еще далеко. Зато этот рубеж уже уверенно перешагнул герой написанного вскоре после выхода в свет «Шапки-невидимки» первого «гриновского» — так считал сам автор — рассказа («Остров Рено») военный моряк Тарт. Он дезертировал со своего корабля на необитаемый остров, бежал от людей в природу и пулями защищал свою свободу от обязательств перед родиной, обществом, товарищами. При этом он громко провозглашал декларацию отщепенства: «Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов подобных тебе? Каждый за себя, братец»20. Тяжкую ношу аморализма, отщепенства нес Грин еще не один год. Конечно, эгоцентризм писателя — результат воздействия множества социальных и личных факторов. Но немаловажным среди них был след его пребывания в среде эсеров, моральная плата за сотрудничество с партией революционного авантюризма. 5Когда путь к счастью в представлении художника столь неопределенен, столь неприложим к окружающей действительности, творчество его приобретает черты поэзии воображения, черты романтизма. Героям Грина понадобилось создать свой мир — мир осуществимой мечты, необъятных возможностей и ослабленных общественных связей. «И Горький и Грин прошли через босячество, — писал Паустовский, — но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом»21. Паустовский не пытался социально объяснить, почему это произошло, его, видимо, удовлетворяло психологическое объяснение — просто таково различие натур и талантов. Но, как уже было сказано, Горький почти сразу же связал себя с движением масс, е рабочим классом и его партией, писателю стал ясен реальный путь к счастью, и он реалистически изображал его в своем творчестве. Для Грина это было исключено, ибо он не видел реальных путей и не видел возможности объединить окружающих людей для достижения счастья: «Каждый за себя, братец». Но каждый должен стремиться к счастью, и для каждого, для одиночки, для субъекта годилось то, что предлагал Грин: уйти от мещанской обыденщины — в необычное, или в природу, или, наконец, в себя. И если не удается уйти реально, как это делают герои «Далекого пути» или «Тихих будней», на помощь приходит фантастика. «Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными», — говорит Друд в «Блистающем мире». Герой рассказа «Путь» (1915) живет в обыкновенном маленьком городке, но видит одновременно две жизни: «...для меня предметы стали как бы прозрачными, и я видел одновременно сливающимися, пронизывающими друг друга два мира, из которых один был наш город, а другой представлял цветущую холмистую степь с далекими на горизонте голубыми горами»22. И он уходит искать этот второй мир — «страну, лежащую за горами», страну мечты. А.С. Грин Фотография, сделанная в петербургском доме предварительного заключения 3 августа 1910 г. Архив Октябрьской революции, Москва Герой другого рассказа («Система мнемоники Атлея», 1911) исчезает из реальной жизни. Исчезает во время пикника, на глазах у друзей, в момент, когда поет песенку о том, что уходит «от грустных улыбок // Для полного торжества //. Над теми, кто дешево сожалеет // И трусливо царит»23. Исчезает на десять лет и вдруг возвращается, прожив «неизвестную» жизнь. Он не может ее вспомнить. Атлей, от чьего имени ведется рассказ, возвращает герою память примитивным мнемоническим приемом. Примитивным до полного неправдоподобия (этим автор как бы подчеркивает свое пренебрежение к реалистическим мотивировкам). И человек — его зовут Пленэр (plain air— вольный воздух?) — вспоминает, но лишь хорошее из прожитых десяти лет, хотя сам он постарел и осунулся за эти годы настолько, что, впервые взглянув на себя в зеркало, — это было в поезде — «обернулся, ища глазами другого пассажира», хотя был один вкупе. Впрочем, такие, как Пленэр, редки: «избранных, способных воскресить радость пройденного пути, и щедро, как миллионер, забыть долги жизни»24, совсем немного. Этот рассказ очень характерен для литературной позиции Грина. Он сам и есть этот щедрый миллионер, забывший долги жизни и стремящийся поделиться лишь радостями, чтобы вдохновить человека в его стремлении к счастью. Характерен этот рассказ и для новой, романтической поэтики Грина, для топкого, но удивительно крепкого сцепления необычайной «загадочной истории» с жизненными впечатлениями, из которых она возникла, и с жизненной проблемой, ради решения которой она сочинена. («Загадочные истории» — так называется сборник, в который Грин включил этот рассказ.) Рассказ написан сентенциозной прозой, где почти каждая фраза, выполняя прямую повествовательную задачу, еще и афористична и несет в себе философско-психологический подтекст. (Это тоже характерно для всех лучших романтических произведении Грина.) Наиболее ярко это дано в песне, с которой исчезает Пленэр:
Итак, «жизнь, ненужная для себя самой» — мещанская, обывательская рутина. О ней в другом, в эти же годы написанном рассказе говорится подробней: «Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин»26 («Далекий путь», 1913). Таковы жизненные условия, лежащие в основе рассказа. Они же и во всей его атмосфере, в реальной обстановке, покинутой Пленэром. Новость о возвращении соседа из десятилетней отлучки застает Атлея в саду за своеобразным занятием: прививкой растениям «некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску»27. Это необходимо, чтобы как-то скрасить серое прозябание, в котором «грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью»28. Побудить вздыхать о прекрасном — вот то немногое, на что пока делает ставку автор. Это и есть жизненная задача, ради которой сочинена история. Рассказ остро сюжетен, новеллистичен в лучшем смысле этого слова. Характерно, что автора совершенно не интересуют самые приключения Пленэра в годы его отсутствия. «Пленэр рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем, любил, был любим, испытал много оригинальных приключений, впечатлений»29, — повествует с некоторым разочаровавшем Атлей (он-то, в отличие от автора, интересуется приключениями!). Вот так — «ничего особенного»! Потому что для автора главное не в самой истории, а в том, чтобы выразить, воплотить мысль с такой эмоциональной и образной отчетливостью, какая нужна для побуждения всех атлеев-читателей вздыхать о прекрасном и устремляться к нему. Несомненно, все это близко блоковскому романтизму. Это явления родственные. У Грина та же, что у Блока, подчиненность стороны повествовательной стороне идейной. То же стремление «к емкости, к многозначности поэтического образа, к максимальному расширению его смысла»30. Та же символичность реалий, которые, не переставая быть реалиями, зовут читателя к широкому обобщению (таковы, например, «толстые сапоги поденщиков» из песни Пленэра). Можно провести и более конкретную параллель, скажем, между «Системой мнемоники Атлея» и «Соловьиным садом» Блока. В знаменитом маленьком шедевре Блока предельная обобщенность столь же причудливо переплетена с реалиями, взятыми из живой действительности31.
И вот рабочий, совсем обычный, изображенный почти натуралистически, переступает порог тоже в сущности вполне реального сада, с ограды которого свисают цветы «лишних роз» (какой «прозаичный» эпитет!). И происходит чудо — нечто фантастическое, неправдоподобное. Разом нарушаются все жизненные связи этого человека. Герой исчезает из обыденной жизни (в черновой редакции окружающие решают, что он утонул, но в дальнейшем поэт отказался от этого хода, демонстрируя презрение к реальности мотивировок). И повествование переходит как бы в другой, высший регистр, меняется весь строй образности: «Опьяненный вином золотистым, // Золотым опаленный огнем //, Я забыл о пути каменистом...»33 А ведь выше были лишние розы, волосатые ноги, мохнатая спина... Но «Пусть укрыла от дольнего горя // Утонувшая в розах стена, — // Заглушить рокотание моря // Соловьиная песнь не вольна!»34 Это уже огромное социально-историческое обобщение, где символика прозрачна почти до публицистичности и мысль, так же, как и у Грина, выражена формулой, афоризмом. Подняв до этого обобщения «загадочную историю» каменщика, Блок достигает своей творческой цели. Конечно, следует подчеркнуть, что речь идет всего лишь о сходстве романтической поэтики двух художников, творчество которых несоизмеримо по социальному наполнению. Но важно отметить и другое. Если Блок был в XX в. далеко не единственным романтиком в русской поэзии, то для русской прозы этих десятилетий путь Грина оказался единственным в своей законченности явлением романтизма. 6Творчество Грина далеко не столь легкодумно, как это принято считать. В основе каждой из лучших его вещей лежит глубокая мысль, близкая, острая и насущная для переживаемого им времени, и в этом немалая доля «секрета» его непреходящего успеха. А между тем существует легенда о Грине, к созданию которой причастны его поклонники и доброжелатели, — в том числе и такие крупные художники, как К. Паустовский, Ю. Олеша, М. Слонимский. Это легенда об оторванности Грина от жизни, или, как писал Паустовский, об «отчужденности Грина от времени»35. «Принято думать, — написано у Паустовского в другом месте, — что мечты Грина были оторваны от жизни, являлись причудливой и ничего не значащей игрой ума. Принято думать, что Грин был авантюрным писателем — правда, мастером сюжета, но человеком, чьи книги лишены социального значения»36. Далее Паустовский не опровергает этого распространенного мнения. Он просто говорит о необходимости для человека всякой мечты, видя уже в этом аргумент в защиту Грина. Но ведь приведенное мнение неверно и по существу. К середине десятых годов герои, порывающие с миром ради своего счастья, все эти дезертиры, отщепенцы и эгоцентристы, вроде Тарта из «Острова Рено», самоубийцы Гинча, Пенкаля из «Лунного света» или Горна из «Колонии Ланфиер», вытесняются героями, действующими для людей, ради счастья других, способными на подвиг для общего блага. Грин шел к этому, преодолевая кризис эгоцентризма. И с бесстрашием истинного художника анализировал этот кризис в своих произведениях. Герой рассказа «Синий каскад Теллури» (1913) Рег пробирается в зачумленный город, чтобы вывезти документы о необыкновенном минеральном источнике, искупавшись в котором люди становятся счастливыми, открывают «вокруг себя массу интересных вещей»37. Он проходит сквозь все ужасы чумы, добывает у хранителя документов пакет, затем с колоссальным трудом покидает город, выдержав бой с санитарным кордоном. И в последний момент, уже пережив все это, выбрасывает пакет ради внезапного чувства к Изотте, девушке, которая помогла ему выехать из зачумленных мест. Все характеры, вплоть до самых незначительных, заявлены в рассказе с предельной четкостью, выразительностью и скупостью, как раз достаточной для того, чтобы рассказ превратился в этический диспут, в спор о праве на свое. Врач, дезертировавший из больницы во время чумы, говорит: «Эпидемия мне противна. Это меньше смерти и больше ужаса. Это нелепость. Я доктор медицины; могу лечить болезни, но не уничтожать нелепости. Кроме того, я слишком горд, чтобы бесполезно тратить свою жизнь на бесполезные вещи»38. Рег, хладнокровно расстреляв солдат санитарного кордона, резюмирует: «...я держусь того мнения, что люди нерасчетливы или тупы. Продавать жизнь за медный грош, тарелку Похлебкин железную койку — это верх бесстыдства, Изотта. Они вправе ожидать всяческих неприятностей»39. Затем, выбросив пакет, он так объясняет свой поступок: «Я равнодушен к людям. В этом мое холодное счастье. Чего доброго, несколько господ, пораженных желтухой, — сложатся, поставят на газоне мой бюст и вздумают позавтракать под его тенью. Ведь у меня есть своя жизнь — пропитывать ее запахом лечебницы я не имею желания»40. Несколько выше мы узнали, что в чумный город он поехал просто, чтобы «позабавиться, а может быть, и получить неожиданную награду. Скучно ездить наверняка»41. И при всем том, он гордо заявляет о себе: «я — вторая душа людей»42. Та же психология и у старика-контрабандиста, предоставившего Регу лодку, чтобы выехать тайком, и давшего ему дочь в проводницы. Так же думает и сама его дочка. Все это душевно свободные люди. Но свободные не только от общественных оков, но и от внутренних моральных обязанностей перед ближними. И поэтому им... худо. Счастье Рега — холодное счастье. Насколько им худо, показывает другой рассказ — «Дьявол Оранжевых Вод», написанный тогда же. Там программа Рега, вложенная в уста «русского эмигранта» Баранова, выражена циничнее: «Мы — люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас — ничего, потому что мы — арестанты жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы я предлагаю вам объявить голодовку — жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и — будь, что будет»43. Это уже тупик. Дальше некуда. Баранов и кончил соответственно: он попытался убить себя, но не сумел этого сделать, и Бангок, от лица которого ведется рассказ, помог ему расстаться с жизнью. Так Грин распрощался с героем-себялюбцем (и с грузом эгоцентризма). Для таких места в жизни нет. И в этой же истории Баранову противопоставлен образ рассказчика (Бангока), жизнелюбивого бродяги, готового пойти на многое ради ближнего. Это его искушает «дьявол Оранжевых Вод» в образе никчемного эгоиста Баранова. Бангок сделал все что мог, чтобы вернуть Баранова к жизни, к людям, н только убедившись в полной безнадежности его душевного недуга и решив, что «так действительно для него лучше»44, помог ему умереть. И это тоже сделано ради ближнего. Заключая эту историю, рассказываемую больному юноше в назидание, Бангок воскликнул: «Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! А от смеха иногда помираешь! Плакать же — стыдно»45. Бангок входит в галерею героев Грина, действующих для людей. Еще в рассказах 1910 г. появляется путешественник, погибающий на пороге научного открытия («В снегу»), и матрос Ленур, убивающий диверсанта, чтобы спасти судно и товарищей («Ящик с мылом»). В том же «Синем каскаде Теллури» за кулисами мелькает упоминаемый лишь в речах действующих лиц путешественник Таймон, открыватель волшебного источника счастья, пожелавший передать его людям (он-то и послал Рега за документами). А за ними вставали всё новые и новые персонажи, рыцари уже не только интересного, но и полезного. Во главе их — Битт-Бой, Приносящий Счастье, больной раком лоцман, отдавший людям всю свою жизнь («Корабли в Лиссе»), Жиль, одержимый бедняк, способный дважды обойти пешком вокруг света, чтобы пустить в ход свое нужное людям изобретение («Вокруг света»), и, конечно же, «девица Жанна Кароль, девяти лет и трех месяцев»46, остановившая войну на целый час («Приказ по армии»). Конечно, подавляющее большинство из них осталось одиночками, иные герои произведений Грина даже подвиги бесспорные в своей полезности людям совершают как бы только для себя. Астарот — Зурбаганский стрелок, всегда мечтавший уйти от «холода жизни к жарким вихрям костра», совершает подвиг, спасая город от нашествия врага. Идет он на подвиг лишь «потому, что это не совсем обыкновенное дело»47. Соратник его Валуэр делает то же вовсе от скуки. И когда на смену им двоим, полночи сдерживавшим в горном проходе целую вражескую армию, подошли, наконец, войска, один из них гордо заявляет: «Я сделал это для себя». А другой думает: «Ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей»48. Но автор недвусмысленно дает понять, как возвышает и обновляет человека подвиг ради других. Отправляясь на охоту с Астаротом, душевно опустошенный Валуэр так видит природу: «...яркое, как море под солнцем, небо я сравнивал с глухонемым близнецом земли, навеки осужденным, без операции, смотреть в лицо непонимающему его брату»49. Возвращаясь после подвига, ставшего для него «началом подлинного чудесного воскресения»50, он смотрит на окружающее совсем другими глазами: «...происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыто стучит звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птица кричит чистым задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег, что камень дал о подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод; я был голоден и хотел спать. II все, что я видел, слышал, знал и чувствовал — было так, как оно есть: непоколебимо, нужно и хорошо»51. Сборник рассказов А.С. Грина «Знаменитая книга» (Пг., 1915). Обложка, рисунок В.С. Сварога Подвиг ради людей излечил даже ипохондрика. Какая пропасть между самочувствием Валуэра и переживаниями Мистера, Сурка и Барона из рассказа «Третий этаж»! И тут на память приходит еще один хороший человек, мелькнувший в небольшом психологическом рассказе «Рука», напечатанном в «догриновский», если так можно выразиться, период творчества Грина, в 1908 г. Пассажир третьего класса Костров пережил в течение пятнадцати предрассветных минут сильное душевное потрясение, хотя, в сущности, совершенное им — пустяк: он просто поднял п уложил поудобнее затекшую руку спящей напротив него юной незнакомки. Сделал он это в купе, где спали еще трое пассажиров. Согласно «глупой и подлой логике жизни», поступок его могли истолковать дурно, и это вызвало бы «недоразумение и, в лучшем случае, появление обер-кондуктора»52. Впрочем ничего подобного не произошло. «Вот пустяки, — сказала девушка, проснувшись на миг. — Стоило вам беспокоиться... Спасибо». И всё. Но «на целый день у большого бессонного человека явилась рожденная случайностью маленькая вера — вера в силу искренности»53. Велика разница между подвигом Астарота и Валуэра и скромным движением души, стоившим стольких моральных усилий пассажиру третьего класса Кострову! Нет, совершать следует все-таки подвиги, чтобы «знать силу своих рук» и широко шагать по жизни, не боясь мещанских шепотков. Только тогда всё вокруг станет «непоколебимо, нужно и хорошо». Да, «Зурбаганский стрелок» — это рассказ об очищении подвигом, об излечении подвигом. Свобода совершать подвиги ради пользы (пусть даже не осознаваемой самим героем, но несомненной для читателя!) — вот высшее проявление свободы личности, вот выбор, достойный человека! И хотя чувство коллектива героям даже лучших рассказов и романов Грина незнакомо, хотя они действуют в одиночку, даже когда стараются не «каждый за себя», а ради других, — поступки их всегда вызваны потребностями времени, общества и служат они времени, как служил своему (и нашему!) времени их автор. И в этом значительность творчества Грина. Нет, не «мечту вообще» несут людям его рассказы, повести и романы. Они задевают в читателе самые драгоценные струны человеческой натуры: доброту, одержимость, «чувство высокого», о котором так хорошо сказал Паустовский, и ополчают против мещанства, обывательщины, против «дряни и мусора», засорявших жизнь во времена Грина, засоряющих ее еще и сейчас. Революционные бои 1917 г. вызвали у Грина небывалый душевный подъем. Закономерно, что тогда же в очерке «Пешком на революцию» автор сам берет слово, чтобы высказать собственное отношение к происходящему в России социальному перевороту. Этот очерк Грина, опубликованный осенью 1917 г., заканчивается знаменательным эпизодом: после тревожного и томительного ночного путешествия пешком Грин, наконец, входит в бурлящий восстанием город. «Пройдя гремящий по всем направлениям выстрелами Лесной, я увидел на Нижегородской улице против Финляндского вокзала нечто изумительное по силе впечатления: стройно идущий полк. Он шел под красными маленькими значками»54. Революция несла с собою не хаос, а... гармонию. Полк шел «стройно»! Столь же закономерно, что именно в это время Грин подвел идеологический итог своим отношениям с российской обывательщиной в публикуемом ниже небольшом рассказе «Маятник души». Это выступление против позиции мещанина в революции, против мещанского трусливого самоустранения от борьбы. Мещанину не дано подняться над схваткой, он способен только зарыться в нору, пить крепкий чай, читать Салиаса да перебирать ягоды на подоконнике. Репьев — фамилия, конечно, символическая — это репейник, цепляющийся за ноги идущих вперед. «Историческая зависть», тревожившая героя в спокойную пору, сменилась в революционную эпоху обыкновенным обывательским страхом, который он маскирует интеллигентским самокопанием. От желания жить в бурных эпохах и участвовать в значительных событиях не осталось и следа. Трагический, казалось бы, конец Репьева не возбуждает жалости. «Мне его не жалко. Он шел путем зрителя», — с неожиданной жесткостью в голосе выносит писатель приговор герою и решительно отделяет себя от него: «Между тем грозная, живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему». Это уже говорит сам Грин. О себе. В декабре 1917 г. рассказ был напечатан в буржуазном еженедельнике «Республиканец», где его подвергли жестокой правке. Особенно пострадала вторая половина текста. В опубликованной редакции у революции нет эпитета великая и не прогремела она, а просто вспыхнула. Герой приехал в деревню не «собирать грибы», а «слушать деревенские хорошие старые песни». Даже провинциальная зима из ленивой превратилась в белую. И, самое главное, — последние строки рассказа, где сообщается о самоубийстве Репьева и дана приведенная выше авторская оценка происходящего, в еженедельнике опущены совсем (см. фото на стр. 653). Даже заглавие рассказа не устроило редакторов «Республиканца». В самом деле: «Маятник души» — ироническое, едкое и очень емкое определение. Недаром вспоминается известная ленинская инвектива о мелкобуржуазном интеллигенте, который то вскочит на стол и «ура» кричит, то лезет под стол и «караул» кричит. В «Республиканце» рассказ напечатан под заглавием «Возвращение»55. Куда более спокойно и куда менее обидно. Публикуя теперь полный текст «Маятника души» по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ56, нужно отметить, что никакие ухищрения редакторов «Республиканца» уже и тогда, в 1917 г., не могли снизить разоблачительной силы этого антимещанского рассказа. «Маятник души» характерен еще и тем, что открывает нам область гриновского творчества, о которой в критике не сказано почти ничего, — область злободневной журналистики. Утверждение, будто Грин был литератором, «отчужденным от времени», неверно еще и потому, что из двадцати шести лет своей литературной деятельности, двадцать он отдал журналистике в самом прямом смысле этого слова. До середины 20-х годов он печатал в журналах и газетах сатирические стихи, фельетоны, очерки, корреспонденции, откликаясь на многие злободневные темы. На некоторые годы (1915, 1917) падает до 70—80 журнальных и газетных публикаций в «Сатириконе», «Биче», «Родине», «Огоньке», «Ниве» и других еженедельниках. Многое здесь еще не разыскано, есть десятки рассказов, известных лишь по названиям, упомянутым в составленных Грином списках произведений для Собрания сочинений, выходившего в издательстве «Мысль»57. Словом, наследие это до сих пор полностью не прочитано литературоведами, но уже и в той его части, которая нам известна, есть множество интересных произведений. Таков рассказ «Эрна» — о чиновнике, который после свержения самодержавия купил собаку Николая II и сошел с ума, вообразив себя императором58. Или сатирический фельетон «Страдалец» — о человеке, приехавшем в разгар войны в провинциальный городишко и не сумевшем удовлетворить любопытство обывателей, разогретое паническими слухами59. Или миниатюра «Веселый мертвец» — о купце, который смеется над собственным надгробием60. Сатирические произведения Грина еще ждут своего исследователя; их изучение, несомненно, поможет правильнее представить облик писателя и вклад его в борьбу против российского мещанства. Отрадно, что в последние годы появляются, наконец, работы, где опровергается «легенда о Грине» (таковы, например, статья покойного М. Щеглова «Корабли Александра Грина»61 и две работы В. Вихрова — послесловие к «Избранному» А. Грина, изданному в Симферополе в 1959 г., и вступительная статья к Сочинениям А. Грина в двух томах (Симферополь, 1962). 7В «Зурбаганском стрелке», именно там, где описано обновленное мировосприятие Валуэра, есть строки: «Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как подымаемый домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть»62. Образ до ощутимости нагляден. Достоверность, убедительность подобных образов, искусно вкрапленных в самый романтический отвлеченный контекст, играют в творческой системе Грина немаловажную роль. Это — привязка вымысла к действительности. Такие опорные пункты достоверных ощущений, реальные жизненные подробности, встречаем мы всякий раз в нужном месте. Санди, юнга из «Золотой цепи», попадает во дворец миллионера. Роскошь обстановки настолько грандиозна, что мы вот-вот усомнимся в правдоподобии происходящего. И тогда автор «выдает» Санди новое платье: «...эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были хотя и скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене»63. Таких примеров можно выбрать множество, но в каждом романтическом произведении Грина их ровно столько, сколько нужно, чтобы оправдать условность повествования достоверностью деталей. Неправ был Андрей Платонов, когда писал в 1938 г.: «Грину необходимо, чтобы его люди жили в „специальной“ стране, омываемой вечным океаном, освещенной полуденным солнцем, потому что автор, обремененный заботами о характеристике своих оригинальных героев, должен освободить их от всякой скверны конкретности окружающего мира. Поэтому Грин оставляет для своего мира лишь главные элементы реальной вселенной: солнце, океан, юг, прямолинейно действующее человеческое сердце, а „второстепенные“ элементы автор устраняет за границу своего мира, в пренебрежение. Ради объективности допустим на минуту, что девушка Ассоль (из „Алых парусов“) живет не в деревне Каперне, одетой „покрывалами воздушного золота“, а в Моршанске. Если при этом сохранить гриновскую характеристику Ассоль и вообще не прикоснуться к ее судьбе (т. е. в точности соблюсти тему и сюжет рассказа), тогда необходимо было бы потратить на создание образа „моршанской“ Ассоль в несколько раз более поэтической энергии, чем ее потратил Грин»64. Перед нами другая грань все той же «легенды о Грине». Оказывается, написать «Алые паруса» просто легче, чем, скажем, «Мальву» (чем не Ассоль из Моршанска?). А между тем у Грина, например, было около сорока вариантов начала «Бегущей по волнам» (шесть из них сохранилось в его архиве). И автор не прекращал своих поисков до тех пор, пока не нашел стержневую мысль — мысль о власти над человеком мечты, несбывшегося. Нет, тут не пренебрежение к реалиям, к действительности. В основе романтического видения — те же жизненные впечатления и жизненные устремления, что и в основе реалистического. Дальше мы коснемся и роли реалий в поэтике Грина. Но все дело в том, что сам метод здесь другой, Фрези Грант предстает перед нами на страницах романа «Бегущая по волнам» в четырех воплощениях. Два из них идеальны. Первое — явление Фрези Гарвею в лодке (кстати, как великолепно контрастируют здесь реальная грязь — сцена на шхуне с пьяными бабами, дракой, подлость мошенника Геза — и высокое благородство — сама Фрези, выходящая прямо из этой грязи). И второе — памятник Фрези Грант, вокруг которого разгорелись политические страсти в Гель-Гью. Два другие реальны. Это — парусник, судно из мечты, прочное, настоящее и красивое, оскверненное подлостью Геза (здесь, это удалось, с памятником — нет). И наконец сама Фрези Грант, персонаж легенды, девушка, в которой «сидел женский чёрт, и если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей»65. Вот в этом последнем — весь Грин. Самое земное и самое высокое, чем может быть одержим человек, начинается как простое проявление женского упрямства, задора и воли. И еще. Можно погубить материальное воплощение мечты (так гибнет реальная «Бегущая по волнам» — судно), но нельзя погубить самое мечту, если в нее веришь. Биче Сениэль не верила и прошла по жизни, отделенная от всего хорошего и дурного. Биче, с ее возвышенной внешностью, на самом деле обыкновенная, приземленная, без взлета. И всё — мимо нее: и «Бегущая» (судно), и любовь Гарвея, и сама жизнь. Как справедливо писал В. Вихров: «Той дерзкой душой, что не боится „ступить ногой на бездну“, оказывается не Биче, а простодушная девушка с корабля — Дэзи»66. Она верит, стремится, живет со всем живущим — и ей счастье, и ей откликается «Бегущая» — Фрези Грант... Так, на стыке мечты и действительности возникает сюжет этого романа и все лучшее, что создано Грином. Что же касается «пренебрежения к реалиям», то нет сильнее аргумента против этого утверждения, чем тот же образ вагона на домкрате из «Зурбаганского стрелка». Пятнадцать лет спустя после опубликования этого рассказа, вспоминая в «Автобиографической повести» свои мытарства в Глазовском железнодорожном депо, Грин писал: «Здесь же мне пришлось работать до изнурения: переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами...»67. Вот, оказывается, какое вполне реальное переживание легло в основу образа, использованного в романтическом рассказе. 8Грин много и упорно работал над каждой вещью, которую считал серьезной. Если же (а так случалось нередко в его жизни, исполненной материальных трудностей) писателю приходилось сдавать рассказ в печать полусырым, он затем, при каждом переиздании правил текст — иногда до десяти раз! — вносил изменения в сюжет, шлифовал характеры, язык. В ЦГАЛИ, где собраны сохранившиеся автографы напечатанных произведений Грина, есть и множество заготовок, набросков, так и не увидевших света. Среди них особое место занимают черновики «Недотроги» — последнего, неоконченного произведения писателя, — приоткрывающие нам дверь в его мастерскую. Творческая история этих листочков изложена ниже в сопроводительной заметке Н.Н. Грин, вдовы писателя, хранительницы Дома-музея Грина в Старом Крыму. Я же остановлюсь лишь на некоторых моментах творческого процесса, которые можно проследить по приводимым отрывкам. В опубликованных несколько лет назад журналом «Советская Украина» «Размышлениях над „Красными* парусами“» Грин писал: А.С. Грин «Корабли в Лиссе» (Л., 1927). Обложка, рисунок Л.С. Хижинского «Сочинительство всегда было моей внешней профессией, а настоящей внутренней жизнью является мир постепенно раскрываемой тайны воображения»68. Главным законом этого мира Грин считал «нравственный закон сплава»69, любовь к «сплавленному с душой». «Сплавленное с душой делается ее ароматом, облекая сокровенное в заботливо вышитые одежды, которые, если мы сотрем грубые границы этого сравнения, являются покровом столь тонким, нематериальным п сложным, как выражение лица человеческого. Поэтому все, что писал или надумывал писать я, даже то, что воображал, повинуясь непроизвольному, всегда было, полностью, воплощением неуклонного закона. Действие вытекало из побуждений, допущенных его властью. Его развитие совершалось зрительно — в области цветов, фигур и оттенков, тех, какие я хотел бы видеть везде с чувством счастливой удачи. Отлично зная, как неисправимо словоохотлива и безалаберна жизнь, я с терпеливым мужеством учителя глухонемых преподносил ей примеры законченности и лаконизма. Моя жизнь, если так можно назвать нематериальное, воспринявшее контурность и силу действительности, может быть уподоблена свету воспоминания, направленному в прошлое. Чем это прошлое дальше, тем значительнее, виднее в нем истинный тон и важность событий, свободных теперь от всего, что было не нашей жизнью или в чем были мы — не сами собой»70. В этой художнической исповеди раскрыта главная движущая пружина творческого процесса писателя-романтика — от мысли и эмоции к образу, облекающему сокровенное в заботливо вышитые одежды. О том, как Грин добивался законченности и лаконизма, упорно и настойчиво работая над текстом, свидетельствуют фрагменты из неоконченного романа «Недотрога». Здесь видна уже вторая стадия работы над романом, когда сюжет его определился и идет отделка эпизодов. Четыре варианта главы о прибытии Хариты и ее отца на мызу, где им суждено поселиться, показывают, как кропотливо вытачивал писатель образы своих героев, продумывал распределение композиционных пропорций в произведении и шлифовал язык. Эти отрывки из черновиков Грина как нельзя лучше отвечают на высказывание А. Платонова о легкости труда писателя романтического направления. Публикуемой главе предстояло сыграть роль завязки в многоплановом большом произведении. Вначале набросав коротенькую сцену с простоватым шутником — хозяином мызы, Грин затем постепенно, от варианта к варианту, вводит в эпизод новых действующих лиц, которым надлежит сыграть немаловажную роль в романе, — сперва старуху (мать хозяина), затем, вместо нее, — служанок, будущих врагов Хариты. Заметно меняется от варианта к варианту и образ хозяина мызы Ропида (в дальнейшем Грин переименовал его в Флетчера). Сперва это некрасивый простолюдин с багровым лицом, в очень безвкусном и пестром наряде. Он грубовато шутит и даже игриво щелкает подтяжкой, поглядывая на красивую бедную девушку. Но такой Ропид не мог бы оказывать благодеяния путникам. И в четвертом, наиболее развернутом варианте у Ропида умное твердое лицо с проницательной улыбкой, а полуседые волосы его лежат «с изяществом пудреного парика 18-го столетия». «Недотрога» не завершена, после смерти автора лишь два наиболее законченные отрывка из романа были опубликованы71. Нам трудно судить, насколько значительной вехой в творчестве писателя стал бы его новый роман. Но и самый замысел книги показывает, что Грин остался в нем верен теме всего своего литературного пути — теме борьбы за счастье, за мечту, за человеческое достоинство. Маятник душиВеликолепные трагедии расцветают на фоне нынешней действительной недействительности. Большинство их — трагедии любви, смерти, подвига, перевозбужденного сознания и — озверения. Но есть трагедии-орхидеи, среди этих черных роз и жестких бессмертников. Одна такая трагедия встретилась на моем пути. Представьте человека лет тридцати, болезненного, но с спокойным лицом, восседающего у раскрытого окна. Человек в халате и туфлях. На его голове — голубая, не то татарская, не то греческая чеплашка. Пред ним, на подоконнике, стакан крепкого чая, ягоды, папиросы и развернутая книга: пятый том Салиаса. Рукопись рассказа А.С. Грина «Маятник души». Лист первый, 1917 г. Центральный архив литературы и искусства, Москва Рукопись рассказа А.С. Грина «Маятник души». Лист последний, 1917 г. Центральный архив литературы и искусства, Москва Против хозяина сидела серенькая молодая кошка с голубой ленточкой на шее и умывалась. С первых же минут встречи меня поразило то, что хозяин, чрезвычайно внимательно выслушивая мои сообщения — мои рассказы о военных и революционных событиях, — ограничивался, в лучшем случае, коротким кивком; большей же частью аппетитно наполнял рот ягодами или неподвижно курил. Наконец я выговорился. Репьев помолчал, затем механически произнес: — Да. Всякие бывают вещи на свете. С нескрываемым удивлением задал я ему следующий вопрос: — Вас, кажется, мало интересуют события? — Нет... ничего, — вяло произнес он и снова обратился к тарелке с ягодами. — Я вас не узнаю, — продолжал я. — Не далее как год назад вы бились с бессонницей и говорили до хрипоты о явлениях, значительно менее интересных, чем нынешний круг потрясений. Вы вздрагивали от скрипа двери. Вашей пищей была газета. Вы были в той категории современников, которым эта действительность топтала мозг и давила душу. Я вижу Салиаса и кошку, вид на речку и черную смородину, но вас, вас я не могу признать в человеке, терпеливо перекладывающем испорченные ягоды в ровную, как клубок, кучку. Репьев оживился. Я, видимо, затронул вопрос, интересующий его самого. — Я знаю это, — улыбаясь заговорил он. — А вы мне вот что скажите: случалось ли вам испытывать чувство исторической зависти? Я не понял и сказал это. — Кажется, я употребил неудачное слово, — продолжал Репьев. — Я поясню свою мысль: когда мы глядим в прошлое, на некоторые изумительные страницы истории, полные сказочно величавых дел, слов, поступков, людей — гремящих и страшных; картин трагических и волнений отдельных жизней, напоминающих цветные огни; когда все это звучит в нашем сознании сложной, как любовное чувство, мелодией, обвеянной столетиями искусства, применившего кисть, резец, перья и клавиши для поэтического увековечения происшедшего, мы, — я, по крайности, — испытывал лихорадочное желание жить в тех эпохах, участвовать в тех событиях... — Или таких же... — перебил я. — Или таких же, да, — и быть хотя бы рядовым человеком, но современным этим восхитительным, грандиозным кипениям. Даже жертвы истории казались мне избранниками судьбы, плачущими от счастья. — Обычный обман зрения. — Да. Тогда, до войны... а вы знаете, какую серую, затертую жизнь я тогда вел, — жизнь маленького службиста, тогда я еще не понимал великого смысла одиннадцати букв: «перспектива». Возьмем, например, картину, пейзаж хотя бы, и сравним ее с картиной истории. Как немыслимо проникнуть в перспективу нарисованную, с целью рассмотреть предполагаемое ее содержание, например, природу гор, лес и т. п., так же немыслимо проникнуть в перспективу историческую, чтобы узнать, как жили массы, составляющие фон и даль картин исторических... Там все смутно, слито, эскизно, лишь на переднем плане выступают яркие образы, сцены борьбы героической... Между тем, я сам, в 14-том году, находился же ведь в глубине перспективы... однако — то настоящее не могло быть мне, понятно, тогда ни перспективой и ничем иным, кроме себя, переживающего то-то и то-то. Вот поднялась война, а за ней прогремела великая революция. Согласен, что войны такой еще не было. Согласен я и с тем, что диапазон нашей революции циклопичен в сравнении с великой французской революцией. Ряд первых потрясений, принявших хроническую затяжность, утомил меня за четыре года, как бочка водовозную клячу, а пестрая смена на различных пьедесталах — больших и пребольших — определенно исторических фигур стала ежедневным пайком. Я ждал, что испытаю историческую влюбленность в это вот настоящее и получу счастье волшебника, отпирающего маковым зерном дворцы и храмы. Однако я точно видел, у кого на сапоге дырка, кто пьет валериановые капли и кто где достает масло; видел, что идет дождь, что дворники метут улицы и что ноги от ходьбы устают совершенно так же, как уставали они при Цезаре или Марате. Я привык к выстрелам, холодно рассуждаю о голодовках и даже цеппелинная бомба, разорвись она на полгорода, весьма умеренно заставила бы меня вздрогнуть. И стало мне так же скучно, как во времена дремлющего на солнцепеке городового, пожарной каски среди кухонного стола и острополитических маевок, с гимназической их любовью и распеванием стихов Некрасова. Я уразумел, что парижанин 93-го года имел право рассеянно проходить мимо гильотины, прислушиваясь к стуку топора так же панически**, как к стуку маятника. Первая публикация рассказа А.С. Грина «Маятник души». Окончание рассказа, из которого изъяты заключительные строки. Журнал «Республиканец», 1917, № 37—38. Затем произошло следующее. Перспектива 1913 года стала таки действительно перспективой, и я с волнением, с завистью обратил свой взгляд на ее душистое, спокойное лето, ленивую зиму, на ее обжорные чайные столы, холодную водку, книги о любовных историях и на ее общие благодушные размышления «о том, о сем, а больше ни о чем»... Как были счастливы те люди, которые... (См[отри] выше.) На крыше вагона приехал я сюда, искренно волнуясь от мысли, что буду есть жареных окуней и собирать грибы... Если еще так недавно душа моя трубила восстание, то теперь она с неменьшим увлечением вторит комариному писку. — А затем? — Дайте срок. Когда-нибудь, по горло сытый таким — не смейтесь! — историческим благополучием, я снова произнесу эти роковые слова... — См[отри] выше? — Да. Вот счастливцы! Марат! Наполеон! Алая и Белая Роза! Мария Стюарт! Спартак! Карфаген! Рим! — Отлично. О-хо-хо! — «Сорок человек на ящике мертвеца... Ио-хо-хо! И бутылка рома»***. Через неделю я получил известие, что Репьев застрелился. Мне не было его жалко. Он шел путем зрителя. Между тем грозная живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему. Наброски второй главы романа «Недотрога»<1> [Отец с дочерью переночевали в роще; Хариту Ферроль уложил в просторное, как дверь, дупло, а сам сидел у костра, прислушиваясь к тишине [шатра тьмы] леса. Как рассвело, они позавтракали и отправились дальше, выйдя разветвлениями тропы на дорогу. Заходя в дворы ферм, Ферроль спрашивал, нет ли работы, но везде отказывали ему, и когда солнце [нач...] повернуло к закату, он [сказал] увидел [на берегу огибающей зигзаг мысов речкп, старую мызу, примыкающую задней стеной к обрыву берега.] старую мызу, укрытую листвой фруктовых деревьев. [Вдали...] Это стояло, задней стеной, на обрыве речного берега. [Меж ветвей виднелась] Узкая речка [огибала зигзаг береговых выступов, стелющих до воды арки ветвей] текла по облачному дну [шевеля блеском течения, прибрежной струей, старые деревья сходились над ней ветвями, а прибрежная струя кружила] [Есть в окрестностях Гертона мыза] [В окрестностях Гертона стояла тогда мыза Финсеса Ропида; считали, что ей больше ста лет. К ней примыкал участок синего винограда. Ропид сидел на каменном крыльце дома в зеленом шелковом колпаке, красном жилете с желтыми полосами, белой блузе и [парусиновых] синих брюках; он [подбоченясь] курил [длинную] трубку [с бронзовой крышечкой] и смотрел, как над голубятней [притворно падал кувырком] опрокидываясь сверкали голуби.] [Внутри чистого двора у стен Две тени скользнули под аркой ворот на мощеный двор]. <2> Они спрашивали работу и получали отказ. Уже под вечер Харита увидела старые каменные ворота одиноко стоящей мызы, и странники решили попытать счастья. По двору ходил тучный человек в малиновом колпаке, желтом жилете и пестрых туфлях; на его багровом лице около носа чернела мушка. Движением пухлой руки он [еде] дал знак подойти ближе и спросил: — Что там такое в узле? Стеснение оставило Хариту, она хлопнула по узлу, сказав: — Остатки прежней роскоши. — Так куда же вы путь держите? — К вам, если есть работа, — сказал, стараясь улыбаться, Ферроль. — Но она не жена ваша, — строго заметил толстяк, подтягивая штаны, причем игриво щелкнул подтяжкой. — Она и не внучка ваша, а также не посторонняя. Я проницателен? — Ужасно! — засмеялась Харита; — я так и ожидала, что «вот дочь и отец» скажете вы. — А разве я не сказал? — О нет. — Значит, я подумал. Серьезно: что гонит вас по дорогам? — Нищета. — Неправда, сынок, мы богаты, но у нас нет ни работы, ни денег. [Вы хозяин? — Милая моя, — сказал ей Ропид, хозяин той мызы, — сядем на крыльцо в тень и будем говорить так серьезно. — Да, я Финесас Ропид. — Голубушка, — сказал помолчав Ропид, — вы у себя дома, и отец ваш. — В таком случае, — сядем на крыльцо, в тень] В это время подошла сгорбленная старуха с укоризненным взглядом п посмотрела на путников. — Ведь и пить они хотят, Финн, —[сказала] шамкнула она; [мужчина, должно быть, не так, а девушка] покорми их. Веди их за стол. — Дайте ваш узел, — сказал Ропид Харите, — вам не нужно будет его больше носить. В моем доме нет места для нищих, но всякого миллионера я встречаю с почетом. И он привел их в большую прохладную комнату. <3> Целый день отец и дочь спрашивали работу в попутных фермах, но ничего нигде не нашли и, как стал наступать вечер, увидели на берегу реки старую одиноко стоящую мызу. Войдя на двор, встретили они приземистого толстяка с надутым лицом [и маленькими внимательными глазами]; он был в зеленом колпаке, желтом жилете и красных туфлях. — Вы, наверно, хозяин, — сказал Ферроль, — мы с [дочерью] дочкой моей идем разыскать работу, не пустите ли вы нас ночевать? — Где же спали вы эту ночь? — Я — в дупле дерева, [а...], — сказала Харита, — в большом дереве, где не было ни змей, ни жуков. Запись А.С. Грина в альбоме Н.Б. Немчинского «Хлам» («Художники, литераторы, артисты, музыканты»), 1929 г. Рисунок Н.А. Соколова. Грин продолжает юмористический рассказ о приключениях изобретателя Чижикова, который поочередно писали в альбоме А. Жаров, И. Уткин, Б. Пастернак, Ф. Гладков, Вс. Иванов, Л. Леонов, Ю. Олеша, В. Вересаев и др. Литературный музей, Москва — Ни жуков... — усмехнулся толстяк, и багровое, некрасивое лицо хозяина начало нравиться девушке. — Да, страшно встретить жука. Так что же, — ночуйте. [Сначала поужинаем]. [Ферроль свободно вздохнул, а девушка так обрадовалась, что [Ропид] ущипнула отца за локоть [.Хозяин подвел их к каменному крыльцу] и нервно осмотрелась кругом. Ропид усадил их в большой комнате.] <4> Путники шли весь день, в зное и беспокойстве, по пыльной дороге. Иногда садились они отдохнуть под тенью стены или дерева. Потом снова брели, заходя в дворы ферм и спрашивая работу, — но безрезультатно, а к вечеру постучались в ворота одиноко стоящей мызы. Работница с суровым лицом открыла и спросила — что надо? Молча выслушала она вопрос Ферроля о ночлеге, молча оглядела Ха риту и молча ушла, туго стуча босыми ногами по [каменному] плитам двора. [Через] — Там просятся ночевать, — сказала она владельцу мызы, сидевшему под навесом у дома с потухшей трубкой в руке. Мызник Ропид поправил над больными глазами зеленый козырек и вышел из задумчивости. — Хорошо, — сказал он, — ступай, приведи их. Кто они? — Девка да подозрительный старик, — сказала работница. — У них узел, надо быть, накрали дорогой. — Приведи, — повторил Ропид. — Войдите, — сказала Ферролю работница, пропустила путников и, энергично закрыв ворота, ушла за угол дома подслушать. Не вставая со стула, Ропид кивнул. — Я болен, двигаюсь мало, — сказал он, посмотрев на Ферроля. — Ночуйте, я вас устрою, — прибавил он, взглянув на Хариту. — Мне жаль вас, друзья мои, но я не виноват в вашей судьбе, а потому немного погодя сядем ужинать. Миранда! Работница, рысью обежав дом вокруг, чтобы естественно запыхаться, явилась не сразу. — Мы будем ужинать, — объявил Ропид, выпрямляя толстую грудь, едва прикрытую желтым жилетом, а потому привлеки к этому делу Муторса и Коломбину. Все приготовьте так, как для лучших гостей, в [большой] столовой и зажгите восковые свечи. Принесите вина из бочек 44 и 63. Расставьте букеты роз. — Хорошо; а завтра я ухожу, — сказала побледнев Миранда: — мой жених требует, чтобы я не служила больше. — Он хорошо делает, твой жених, — [ответил поворачивайся] ворочайся живее и позови Коломбину. Где же вы ночевали эту ночь? — Я спала в дупле огромного дерева, — сказала Харита, несколько сму[щаясь]щенная опасным светом, брошенным из-под зеленого козырька на Миранду, но ей опять стало покойно и весело. — Не подумайте, что мы нищие. Это не так, у нас нет только работы и денег. [— Дурочка, — сказал мызник, — ты думаешь, что много мне объяснила? Я узнал это раньше, чем ты опустила свой узел. Смею спросить, — чинно обратился он к Ферролю, — о положении ваших дел. Ферроль сказал то, что сказано уже нами, как явилась Коломбина, смиренное, широкое существо с пестрым лицом. [Ропид велел ей, прежде всего]] — Да, совершенных пустяков нет, — согласился Ропид. — А у меня есть мыза, виноградник и миндальная роща, но я беден [как] и болен. Коломбина! Шушукавшаяся с Мирандой Коломбина бросилась стремглав бежать из кухни на зов и, смиренно моргая большими ресницами, подошла к мызнику. — Ступайте там, — сказал Ропид, — и делайте хорошо [ты за Миранду]. — Очаг затоплен, индейка ощипана, принесли рыбу, — сказала Коломбина, — я выну серебристую скатерть и вот сейчас нарежу цветов. — Вы нам устроили пир? — сказала Харита, — а хорошо ли так? Быть может мы стесняемся, как знать? [Вы] Вы не обиделись? — По-своему [она] Харита права, — поддержал Ферроль девушку, — и я подумал нечто в этом роде, что она так прямо высказала. — У Финсеса Ропида дикое сердце, — ответил мызник, — но не фальшивое. Оставьте ваши сомнения. Но что же, Харита, — вы прослезились — это зачем? — Так... устала, должно быть. Я вытру. — Однако, — сказал Ропид, — ночь будет прохладная. С гор тянет туманом и Z закрыл свою вершину черными тучами. Харита, хотите простокваши с корицей? [последний блеск дня разделил двор, обнесенный белой стеной, на ряд странных... Встав, девушка прошла по двору] — Хочу, — сказала она, спрятав платок [и], просветлела и улыбнулась. — Хотите вина? — обратился Ропид к Ферролю. — Пожалуйста, — ответил Ферроль, — давно я не пил вина. [Люблю согласие между] — Коломбина! — закричал Ропид и, махая бегущей из кухни женщине пухлой рукой, чтобы она выслушала, не теряя времени на приближение, докричал: — Простоквашу с корицей, вино из бочки 44. Усердно мотнув головой, Коломбина ринулась в кладовую и [пор] погреб. Вскоре Харита медленно, с наслаждением ела сладкую простоквашу, а [Ропид и] Ферроль (нрзб. 1 сл.) пил из хрустального, отделанного золотом, стакана [прекрасное], старое вино цвета апельсинной мякоти. [«Особенный уклад жизни». — Что мне неясно здесь? — подумала девушка]. Встав, девушка обо[йдя]шла двор. [Двор] Он был просторен, чист, вымощен [небольшими] плитами; через белые стены свешивался цветущий кустарник. В конюшне жевала лошадь. Огненно-лиловые петухи трясли красными гребнями среди белых кур; на голубятне сидели голуби. Под [плоским] каменным у стены колодцем [торчал] висело [сверкало] медное ведро. На крыше кухни спал кот. [Так о чем же я не могу додуматься? — твердила Харита. Она повернула к кухне, находившейся в дальнем углу двора]. — Хороший двор, — подумала девушка, — пристало ему называться достопочтенный. И, обернувшись к дому, впервые увидела она, как плотно теснятся(?) старые [ство] [кроны] стволы деревьев к разрисованным трещинами стенам; полукруглый выступ переднего фасада [был прикрыт оканчиваясь] между черепичной крышей и широким крыльцом напоминал башню. Левая сторона фасада была этажом выше правой, полукруглые окна защищены медными прутьями. Арку входа поддерживали два каменные столба. Через решетку маленького балкона свешивался матрас. Пока она гуляла среди двора, солнце ушло за океан [и все вокруг], оставив [легкую] ровную тень, исчезла игра лучей среди неспокойных листьев; сильнее заклубился дым кухни, [и] громче [стал слышен] сту[к]чали нож[ей]и запахло пищей и розами. Коломбина [В стол] проворно таскала в дом блюда с жарким, [и] цветы и вино, обтирая на ходу графины передником. Харита вернулась под навес, где старики вели разговор, Ферроль рассказывал Ропиду [об] о панцире против пуль. — Потеряв счет неудачным опытам на металле, — говорил Ферроль, — я обратился к шелку. Я сделал панцирь толщиной в дюйм, из плотно скрученного особым способом [чистого] шелка, ни нож, ни пуля не пробивали его. Высокая стоимость изготовления таких панцирей требовала денег, но, как никто не покупал мой патент, я подыскал [чело] компаньона и выдал, за обоюдным поручительством нашим, векселя. <5> К вечеру следующего дня Ферроль и Харита, нигде не найдя работы, постучались [и] в ворота небольшой мызы. Ее хозяин оказался приветливым добрым человеком, несмотря на возраст, — лет шестьдесят было ему, он [двигался] сохранил ясность духа, юмор, ловкость движений. Его звали Абрагам Ропид. На умном твердом [его] лице [следы жизненных испытаний оставили] Ропида [хороши были темные глаза] всегда мелькала проницательная улыбка, а [слегка спутанные] полуседые волосы его лежали с изяществом пудреного парика [тех времен, когда заплетались косы] 18-го столетия. Встретив путников как гостей, накормив их отличным ужином, Ропид приказал служанке Миранде устроить две постели в свободных комнатах левого крыла здания. Миранда, [черная и] смуглая женщина с суровым лицом, отправилась исполнять приказ, а Ферроль поведал Ропиду свою историю. — Мой план, — сказал в заключение Ферроль, — состоит в том, чтобы по дороге к Покету заработать денег на проезд наш в Риоль, есть там оружейные заводы, а дело это мне хорошо знакомо. Меж тем Харита, отдохнув [и поев], спокойная, сытая, чувствовала подъем духа, но некуда ей было излить его, она сидела и улыбалась, медленно гладя кожаный валик кресла, а ногу с лопнувшим башмаком прятала [под] под сиденье. — Надо вам отдохнуть, — сказал ей Ропид, — хотите, я покажу вам, где комната. — [Хорошо, — встала Харита, но задержалась. Он привел ее по лестнице в комнату с] Гостям были отведены две комнаты рядом, а двери их выходили [в большое помещение, кото] в небольшой зал. Здесь стоял шкап с книгами; [указав] Ропид [указал шкап и] сказал Харите: — Шкап не заперт, читайте, сколько хотите. — Хорошо, я потом за него примусь, — ответила девушка. Ропид наклонился и сделал что-то с ее ногой, но [так что] она, рассматривая шкап, поздно заметила его движение, — лишь когда он выпрямился. — Что это? — спросила Харита, отступая и смотря на пол. — Ничего, ничего, — сказал Ропид, пряча нитку за спину. На нитке он прижал ногтем две мерки: длину и ширину башмака. — Какой он странный, — подумала девушка, — верно он нашел что-нибудь. Открыв дверь комнаты, Ропид пожелал Харите спокойной ночи и неторопливо ушел, а Харита заговорила с Мирандой, расстилавшей белое одеяло. — Надо ли вам помочь, Миранда? — Нет, — сказала служанка. — Это окно выходит к морю? [Снова] — Да, — ответила Миранда, наливая в умывальник воду. Харита помолчала. — Будьте добры [если] меня разбудить пораньше, — сказала она, вздохнув, потому что нам надо идти. — Хорошо, — ответила Миранда и, подобрав тряпки, ушла. Девушка выглянула в окно: там, чернеясь на заоблачном свете позднего неба, стояли горы. — Ах, все равно, — подумала девушка, — какое дело мне до глупой Миранды. Она вышла посмотреть, как обстоят дела в комнате отца, и услышала за дверью залы отчетливый разговор: — Миранда, — говорил Ропид, — я слышал, как вы невежливо, нехорошо отвечали бездомной девушке, которая не сделала вам ничего худого. — Она врет, если пожаловалась, — сказала Миранда. — Сама же пристала ко мне и говорит: «а что, богат ли ваш хозяин?» — Неправда, я слышал, когда проходил под окнами, другое. — Ну, хорошо, я буду говорить как с принцессой. — И это лишнее, говорите с уважением, так как она моя гостья. Это всё, а на следующий раз я выдам вам ваше жалованье и забуду о вас. — Что это ты такая веселая? — спросил Ферроль, когда Харита пришла вниз. — А вот так, мне весело, — сказала Харита и села рядом с Ропидом. — Я отошла. Побыла в комнате. Я засну крепко, сынок. [Не то что в дупле] Застряло? — обратилась она к Ропиду, который не мог прососать трубку. — Сейчас. Чем же? Гвоздя нет. Разве булавкой? Но нет и булавки. — Обнищала, — шутит Ферроль. — Нет, сынок, мы не нищие, у нас нет только денег. Харита выбежала на двор и принесла длинную колючку акации. — Колупайте-ка этим, — сказала она, предварительно тронув пальцем острие колючки. — Прочищено, — заявил Ропид, испытав орудие Хариты. — У акации есть колючки, они защищают ее, а есть ли они у вас? — Нет! Абсолютная бесколючесть кругом, можно пощупать, — расхохоталась девушка, потом задумалась и стала водить пальцем по скатерти. Вскоре после того Ферроль улегся спать, весьма довольный настоящим отдыхом после утомительного пути; ушла, поцеловав на ночь отца, и девушка в свою комнату, но не разделась, а стала прислушиваться. Когда Ферроль начал храпеть, она тихо зашла [в его комнату] к нему, [сняла] взяла его сильно проношенные брюки и, пятясь на цыпочках, удалилась но, когда притворяла дверь, то увидела, что в зале стоит Ропид. Смутясь Харита быстро свернула брюки и потупилась, а Ропид подошел к ней. — Вы не спите еще? — сказала девушка, держа отцовскую вещь за спиной. — Я ложусь поздно. Отнесите эту починку [к] себе и вернитесь, я хочу поговорить с вами. — Хорошо, а потом я буду штопать, так как тут есть, понимаете, небольшие отверстия. Необходимо, ничего не поделаешь. Я вернусь; только я отнесу. Ропид стоял задумавшись. Рассеянно взглянув на возвратившуюся девушку, он [сказал] увел ее на [железный балкон, чтобы Ферроль] маленький железный балкон и сказал: — Сегодня ли, завтра ли, но этот разговор нужен. [Ка] Я одинок, стар и соскучился без людей. Оста[ньтесь]вайтесь здесь жить [у меня] навсегда. [—Как же так? — [почти [вскричала] отозвалась девушка, покраснев от неожиданности]]****. — Благодарю вас, — сказала, оторопев, Харита, — но я не могу решать сама такой важный вопрос. — Да, поговорите с отцом. — Допустим, он согласится. Как же мы будем жить? Горестно жить из милости. — Горестно жить из милости, но приятно из дружества, — ответил Ропид. — Правда, вы особенный человек, я это сразу заметила и доверяю вам, — задумчиво начала Харита, но уже ей хотелось смеяться от удовольствия. — Но вы совсем не знаете нас; еще один только вечер мы здесь. — Немного надо времени, чтобы различить воду от вина, оленя от козы и золото от меди, — сказал Ропид. — Быстрота решения еще не означает его несостоятельности. — Но другое означает. Может быть, мы преступники! Какие-нибудь жулики, хотя, — поспешно докончила Харита, — этого нет, конечно, но так, примерно сказать!? — Примерно сказать, что вам пора спать, — ответил Ропид, — итак, снова поговорим утром. — Я не знаю, что будет, — помолчав сказала девушка, обратив к Ропиду растроганное лицо, — но я знаю, что теперь не забуду вас никогда. Спокойной ночи! Она вошла в комнату, оборвала фитиль свечи, уселась и пришила пуговицу к изнанке материи. Затем Харита [...] <6> Ропид увел Ферроля показать [осмотреть ему] мызу, но Харита не пошла с ними. — Если позволите, я сделаю это одна, как-нибудь, — сказала девушка, — мне предстоит хозяйственное занятие. Дарственная надпись А.С. Грина на книге «Джесси и Моргиана» (Л., 1929): «Викентию Викентьевичу Вересаеву, одному из очень немногих настоящих писателей, — от автора. А.С. Грин. 12 февраля 1929 г.» Литературный музей, Москва Однако, собрав грязное белье и проходя [к коню] вокруг дома к ручью, [сверн] — под обрывом у задней стены мызы она залюбовалась блеском сквозной ниши [в] каменной оград [е]ы двора; за нишей [блестел] сверкал сад. Харита поневоле заглянула туда — самое слово «сад» пленяло ее. [Вокруг. Полукруг сада был] Полукруг сада, огибаемый [невысоким] глубоким орвагом, был [собственно, невысокий] невелик и лишен [ограды, лишь нити колючей прово] и защищено внешней стороны [только] колючей проволокой, просекающей неровные группы5* кустов, осыпанных темно-голубыми цветами с желтым подцветником. В центре сада мерила облака вершиной огромная араукария, вокруг которой теснились кактусы и алоэ. Из других деревьев были хороши магнолии с цветами цвета слоновой кости и древовидные папоротники. Вдоль тропы шли вокруг сада, то скрываясь в полной цветов траве, то уводя в тень, где [с мелькающей] за просветом [видне] [плавал?] горный склон, а за оврагом рос виноград, Z и оглянулась. Высоко над ней стояла тыловая стена мызы, только одно окно было в углу, под крышей и по [осыпающейся] тропинке спустилась [в берегово] к основанию его выступа6*. Ручей [проходил] струился по облачному дну [а картины извилистого берега], лишь колебание лежащих у берега, на воде, листьев [подводных растений] выдавали ее поверхность. [Прорези берега кружились. Отвесы берегов]. Тростник был высок; стрекозы стояли в воздухе [обливая], заливая трепещущим стеклом крыльев. Срез кедра [на дворе] в саду. <7> — Делайте, как хотите; вы дома, — сказал Ропид. — Я остаюсь с тем условием, — заявила Харита, — что мне дадут работу. — Дадим работу, — ответил Ропид, — впрочем, вы сама найдете ее, где, когда, как и что вам захочется. [— Завтра, — сказал Ферроль, — я побреду в Гаммерстон] — — Напрасно вы так сказали, — встревоженно заметил Ферроль, — потому что Харита существо деятельное и беспокойное, она перебьет массу вещей и наделает хлопот всем. — Сынок, сынок! — укоризненно сказала Харита, — хорошо ли так говорить? — Следовательно, ваше представление о себе иное? — спросил Ропид. Обиженная, Харита выпрямилась и некоторое время молчала, но принудила себя, наконец, ответить: — Я сужу так: если я делаю что нибудь хорошо, — похвалите меня, а если делаю плохо, — стоит ли обращать внимание? — Нет, не стоит, — важно сказал Ропид. — Не стоит, — подтвердил Ферроль. — Лучше я встану и пройдусь, — вздохнула девушка, — так как вы оба подшучиваете надо мной, а за что? — За то, — угрюмо обронил Ропид. — За то, — [на редкость] удачно скопировал его Ферроль. — Я действительно скучаю сидеть без дела, — сказала Харита, — без дела и без движения. Но когда я читаю, — я могу сидеть спокойно и долго, я двигаюсь тогда в книге, с теми, о ком читаю. Она встала и ушла к себе, где увидела новые башмаки. Что башмаки предназначались именно ей, явствовала приложенная к ним тут же на стуле записка Ропида: «Так надо; так хорошо». Вспыхнув, Харита залилась слезами [и это горько были горькие слезы] и отплакав надела башмаки с великим облегчением. — Действительно, что так хорошо, — говорила она, притопывая носком, а затем, бегая по комнате и склоня взгляд к стройным своим ногам, — те были совсем дырявые. Значит, я — нищая? Нет, нет; только все это трогает, волнует меня; мыслей много противоречивых. Все равно. Но обувшись, она села на стул, не решаясь теперь сойти вниз. Так она сидела бы долго, если бы ей не пришла разумная мысль о равновесии, и, порывшись в узле, Харита [достала] надела еще почти новую светлую блузу, волосы обвязала бархатной синей лентой и пристегнула к рукавам ажурные нарукавники. [На лестнице встретила она отца, сказав ему: — Видишь, у меня башмаки? Но Ферроль не смутился, только сказал: — Хорошо, Ропид верен себе, и я буду верен ему — как жизнью, так даже и смертью. Все-таки, ты устала? — [Доброта] больше утомляет, чем злоба, — тихо ответила девушка, прижимаясь к плечу отца и обнимая его. — Бедный ты мой! — Ну, ну... нервная стала! Я осилю нашу беду.] На лестнице встретила она отца и показала ему ногу. — Видишь? У меня башмаки, — сказала Харита, — они очутились [у меня] в моей комнате с запиской, что они для меня. Я их взяла. Хорошо ли это, отец? Ферроль очень удивился, задумался, но в конце концов правильно отнесся к поступку хозяина. — Что же такое? Он одинокий и великодушный человек, а башмаки — увы! — тебе нужны [уже] очень давно. Я чувствую к Ропиду доверие и горячо признателен ему. Когда мы поправим свои обстоятельства, то подарим ему тоже какую-нибудь приятную вещь, а пока не думай больше об этом. — Бедный ты мой! — сказала Харита, обнимая Ферроля и прижимаясь к его плечу головой. — Не можешь мне купить башмаков. Я даже устала, сынок; [говорят] доброта, может быть, утомительнее злобы. Куда ты идешь? — К Ропиду, осмотреть мызу. Они сошли вниз по лестнице, и Ропид [стал звать] позвал девушку идти с ними, но она отказалась: — Если позволите, я сделаю, это одна как-нибудь в другой раз, — сказала [девушка] Харита и показала носок башмака. — Вы видите, дядя Клаус принес мне подарок. Поблагодарите его, пожалуйста, за меня, от всей души. — Клаус не любит благодарности, — ответил, низко кланяясь ей Ропид, — впрочем, точно ли я снял мерку вчера? — Ах!.. Вспомнила: вы нагнулись, когда я стояла у шкапа. [Мы сочтемся, сказал] — Право, дорогой Ропид, — сказал Ферроль, — вы отнеслись к нам с таким участием, что я никогда не забуду вас, и очень хотел бы в свою очередь быть вам полезен. Надеюсь, вы намекнете, при случае. — Стары мы с вами, — отвечал помолчав Ропид, — чтобы не понимать друг друга. На этом разговор кончился, и, сказав: «а мне предстоят хозяйственные занятия», Харита, снова взойдя наверх, собрала грязное белье. Проходя с ним вокруг дома, к ручью, текущему под обрывом сзади мызы, девушка [остановила замети(ла) увидела сквозную нишу сквозь] остановилась перед сквозной нишей стены двора [за] там сверкал сад Ропида. [Она] Харита зашла посмотреть. Вокруг этого небольшого [сада] участка лежал глубокий овраг, делая тем излишней ограду. [Ее заменял] Край обрыва был засажен кустами, покрытыми множеством живых цветов. В центре сада меряла облака вершиной высокая араукария, нижние ветви которой лежали среди кактусов и алоэ. Цветы магнолий, оттенка слоновой кости, пурпурные цветы Z и кусты роз раскидывались на фоне синих теней или [золотых от] яркого света [озаряющего]. В саду не было аллей, только тропы, ведущие к отдаленному тенистому месту под тюльпановым деревом, [ствол которого был окружен плоским камнем] где [стоял] на [высоких] четыре камня [стоял стол] был положен толстый срез красного кедра и вокруг этого стола поместились каменные скамьи. Отсюда вид[ен]на была за оврагом виноградная плантация и затуманенные расстоянием горы. Харита любила сады, любила самое слово сад, а потому внимательно осмотрела и заглянула под араукарию. Там сокровенно, в темной тени, стояла трава. Казалось, только что здесь был кто-то, или бывает, но его нет пока. Затем она выползла из-под этого укрытия и через двор сошла по тропе к [ручью] основанию берегового выступа тихо текущего ручья. Оглянувшись, Харита увидела над собой тыловую стену мызы, лишь одно окно в правом углу, под крышей, было на той стене. Ее нижняя часть скрывалась в уцепившихся за нее ворохах вьющегося и колючего кустарника. Харита опустила белье к ногам и посмотрела в ручей. Дом, в котором А.С. Грин провел последние годы жизни. Фотография. Старый Крым. 1930-е годы. Центральный архив литературы и искусства, Москва Ручей, шириной в неполную возможность перепрыгнуть его, стлался по облачному дну; только лежащие на воде у самого берега сломанные стебли тростника выдавали его поверхность. Над высоким тростником летали [стрекозы, останавливаясь в воздухе] стрекозы. Едва Харита развязала свой узел, как осыпалась к ее ногам земля с обрыва и у воды очутилась Миранда, по-видимому, серьезно недовольная самостоятельной стиркой. — Напрасно не сказали вы мне, — бойко объявила она;— отдайте, я тотчас выстираю, и к вечеру все будет готово. — Нет, я сама! — вскричала Харита, защищая узел, уже схваченный служанкой. — Я люблю стирать. Я не отдам. Миранда уступила, но не ушла сразу. — Как хотите, конечно, — сказала она, — я вам же хотела услужить. Промочите башмаки. Надели бы худые, свои. — Ничего, я разуюсь, — ответила, тяжело взволновавшись, девушка, — идите, вы не нужны мне сейчас. Сосредоточенно напевая, Миранда поднялась вверх и пришла на кухню, где чернокожая Августина валяла черными руками белое тесто. — Смех, гадость! — сказала Миранда приятельнице. — Хозяин наш стар и глуп; она живо оберет его; у ней уже тон хозяйский. — Ты красивее, — оскалилась [Августина] Юнона, — только Ропиду не нравишься. Всем нравишься. [Августина] Юнона достанет травы лучше лекарства, Миранда подсунет ее господину в подушку. Тогда откроются его глаза. — Бутылка рома, если не врешь. — Будь [ты] спокойна, я сделаю. Между тем Харита нарвала тростника и [и разо] [устроила из него] разостлала его у воды, а чистое белье укладывала, свернув жгутом, на тростник. Чтобы защитить голову от солнца, она обвязала ее белым платком. Вот как устала спина, девушка выпрямилась и, поправляя волосы, рассеянно посмотрела через ручей. Ее внимание было привлечено висевшими на кустах прядями ползучей травы, напоминающей гриву. Жгло солнце, тишина не нарушалась ничем, но [в кустах зашумело] что-то совершалось вокруг — и из кустов выехал всадник [бородатый человек] с длинной бородой, с густыми бровями. Глубокий шрам на щеке был, как мелом, проведен по загару лица. Его латы сверкали [горели, как вода в блеске лучей] сверкали подобно озаренной воде. Сзади него, крепко держась за всадника, сидела молодая дама в белом костюме пажа [с смелым капр.], и ее раскрасневшееся лицо выражало досаду и утомление. Всадник остановился у воды и сказал что-то на неизвестном языке, лишь [произнесенное им] имя «Арманда» было понятно Харите как обращение к женщине. Она вспыхнула и, сняв своенравным движением висевшую на ее груди золотую цепь с изображением железного сердца, бросила эту вещь в кусты. Всадник [иронически посмотрел на нее] сомнительно улыбнулся, но она протянула ему обе руки и посмотрела ему прямо в глаза. Он кивнул. Снова шевельнулись кусты, задетые [ветром] легким ветром, грива коня повисла на их ветвях темной травой, а верхний край белого вала за бугром берега напоминал страусовое перо. А.С. Грин во время последней болезни. Фотография. Старый Крым, 1932 г. Центральный архив литературы и искусства, Москва Харита крепко зажмурилась и потрясла головой. Пришло ей на мысль, что подкрадывается солнечный удар, и она смочила виски теплой водой ручья, затем развесила белье на тростник и взобралась по тропинке на двор мызы. У входа в дом была естественная терраса — протянут над землей тент, а под ним — стол, диван, качающееся кресло и стулья. Когда Харита пришла, Ропид угощал Ферроля смесью апельсинового сока с ликером, они рассматривали ружье Ропида, у которого экстрактор действовал слабо. Ферроль сказал, что к вечеру починит его. — В комнатах значительно прохладнее, — заметил Ропид Харите, — впрочем, скоро мы будем завтракать. А! Я слышу лай собак, это Вансульт! Действительно во двор [проб]вбежали два дога, белые с коричневыми пятнами, а за ними явился всадник, сосед Ропида, Z Вансульт, рослый человек 28 лет. Смуглый румянец во всю щеку, широкие плечи и веселые темные глаза Z заимствовал от отца, а вьющиеся на лбу и висках волосы — от матери [миниатюрной вспыльчивой женщины]. Небольшие темные усы [изгибом греческ[ого]ий лук[а], [каким] оттеняли простодушную, но твердую улыбку этого на редкость беспечного лица. Талию всадника охватывал пояс-патронташ, остальной костюм составляли коричневая шляпа, сплетенная из стеблей местной травы, белая рубашка и сапоги, украшенные серебряными шпорами. [На плече] За спиной висело ружье [какая лошадь]. [Подъехав к террасе] Въехав и сдержав лошадь, Вансульт [остановился и, сняв шляпу, отвесил] крикнул: — Скорее, Ропид, седлайте вашего Оберона, неподалеку нашли следы пантеры, а как я не жаден, то отдаю вам любую половину ее, если разделите со мной скучный путь на ZZ Желтую гору. — Забирайте обе половины, Z, — отвечал Ропид, — у меня гости, да и вам, я думаю, не мешает, хотя бы на час, оставить высоту и спуститься вниз, к завтраку. Вансульт вытаращил глаза, но, впрочем [спустился], покинул седло довольно охотно, лишь пробормотал: — Зной будет нестерпим. Что скажут обо мне Z и Z? Между тем доги легли в тень, не сетуя на задержку, а Вансульт, поручив лошадь Скабе[йе]ру, одному из работников мызы, вошел под тент и познакомился с новыми для него лицами. Харита сидела в качалке. Некоторое время движения молодого охотника были связаны. Он бросился на диван и полуразвалился, вытирая шею платком. — Отличный день для охоты, не правда ли? — обратился он к девушке, на что та с трудом удержала смех, — так рассеян и шумен был самый вид Вансульта. — [Ваша репутация], ZZ, ступайте сюда. Мои собаки, — сказал он, когда сильной походкой подошли об[е]а [собаки] пса, — справляются с пантерой, как я, например, с кошкой. — Генри Вансульт страстный охотник, — сказал Ропид, — потому-то, Харита, он и обращается к вам как к компетентному лицу. — А? В самом деле! — смутился Вансульт. — Да, теперь девушки не охотятся. Впрочем, есть одна, вы знаете ее. — Должно быть, Гонорина Риваль, — сказал Ропид. — О, да. Сорок пять лет. Благодаря устройству голосовых связок [считает рог пустяками] не берет с собой рога. [— Тогда вы] — Самая подходящая для вас жена, Z, — заявил Ропид. — Женитесь, наконец, чёрт возьми! Конечно, не на Риваль, [так как] это я пошутил. У вас пойдут дети, заботы и [— Зачем жениться? — небрежно и полувопросительно вздохнул молодой человек] вы успокоитесь. [— Ах да,] — Да, — [с жаром] вскричал Вансульт, принимая от Ропида стакан ликерной смеси, — да! дети, — вы правы! много детей, пять, шесть, одиннадцать, путать мне волосы на головенках! Отовсюду лезут на вас, а посередине она, мое божество, моя королева! Когда-нибудь я женюсь. Все рассмеялись, а Харита пуще всех — так картинно изобразил Вансульт движениями и тоном голоса будущую семейную сцену. — Нет, нет! Этого не будет с вами! — воскликнула девушка, — вы ведь так увлечены охотой! — Выдумаете? — встревоженно спросил Вансульт. — Выдумаете... — печально повторил он. — В самом деле я произвожу такое впечатление? Это нехорошо. Это плохо. Это мне не нравится. Как виноград? — Изумителен, — ответил Ропид. — Я слышал, вы сочинили новую песню. — Я? Да... пустячок. Где ваша гитара? Ропид принес гитару, Вансульт настроил ее, говоря: — Это на мотив, который я недавно слышал в Гертоне. — Та-ра-та-та-ра-та-аа, — пропел он и простодушно улыбнулся Харите на ее легкий смех: этот человек вызывал в Харите неудержимо веселое настроение. — Так. Та-та-ра-та. [Он заиграл и запел:
Умело аккомпанируя, Вансульт начал петь:
Объяснение к отрывкам из последнего романа А. Грина «Недотрога»Роман «Недотрога» был задуман Александром Степановичем в начале 1930 г., вернее, с этого времени он стал предметом его разговоров. Из каких недр его воображения и мышления, в какие «внутренние сроки» мелькнула у него идея «Недотроги» сказать невозможно. Этим он никогда ни с кем не делился, считая, что записанное, сказанное или рассказанное до времени нарушает для него же цельность сюжета и темы, обедняет их. С начала 1930 г. он начал говорить о романе, делиться мыслями о нем. Даже советоваться, что с ним бывало до чрезвычайности редко. Так о некоторых картинах одного из героев романа, талантливого художника алкоголика Петтечера, он часто беседовал с художником К.Ф. Богаевским, желая отчетливо представить, может ли, скажем, уцепившаяся за выступ скалы рука повисшего над пропастью человека выразить всю силу его отчаяния так сильно, как выразило бы на картине его лицо. «Недотроги» — простые люди, ничем особым не привлекающие к себе внимания. Их довольно много среди нас. Они остро — а в беде болезненно — ощущают несправедливость, душевную тупость, грубость, хамство. Страдают от этого; но только равно с ними чувствующие могут это уловить и понять. Таковы герои романа — безработный оружейный мастер Ферроль, его дочь Харита, проводник Дегж и некоторые другие. В наследство от бабушки Харите достался мешочек с неизвестными семенами цветов. На мешочке стояла надпись — «Не тронь меня». После многих горестей и нужды Ферролю удается получить в аренду остатки разрушенного форта, где он устраивает небольшую мастерскую — чинит оружие и делает фейерверки для окрестного населения. А Харита разбивает в стенах форта небольшой сад и сеет свои семена. Вырастают чудо-цветы, необычайной и оригинальной красоты, обладающие удивительным свойством, объясняющим странную надпись на мешочке, — при прикосновении к ним морально нечистых или душевно грубых людей они склоняют, свертывают свои головки и погибают. Больше двух лет бился Александр Степанович над этим романом. То, что блистало в его воображении, дало ему право однажды сказать: «Этот роман будет во много лучше и сильнее „Бегущей по волнам“». Но время шло, а роман все не складывался. Так уже было однажды с Александром Степановичем — при рождении «Бегущей по волнам». Сорок начал были им собственноручно сожжены. Тогда он находил этому объяснение: не удавалась конструкция. Основная же мысль все время была тверда: право на мечту, право видеть действительность такой, какой встает она в его воображении. Положение с «Недотрогой» было иным. В 1929—1930 гг. книги Александра Степановича почти перестали печатать. Руководство РАПП требовало, чтобы он «перестроился», писал «бытовое и современное». Роман не удавался ему, так как он предполагал, что произведение не будет напечатано, а без чувства своего читателя, для лежания материала в архиве он работать не мог. Но творческая радость все же пришла к Александру Степановичу в последние месяцы его жизни. В апреле 1932 г., читая газету, он подозвал меня и с посветлевшим лицом сообщил: «Дружок, повеяло свежим ветром, — распущена РАПП. Нам будет легче жить». А недели за три до смерти сказал: «„Недотрога“ окончательно выкристаллизовалась в моем воображении. Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая, я сам им улыбаюсь». Так целебно было для него одно лишь сознание, что он снова может свободно писать и иметь читателя, которому есть что отдать. Мечтал, как он, выздоровев, будет писать «Недотрогу» в тени большого ореха, под которым лежал больной. Не удалось исполниться его мечте, связанной с «Недотрогой». Сам — недотрога, он безвременно ушел из жизни. Н. Грин Примечания*. Так в автографе (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 47). В журнале заглавие произвольно изменено. **. В печатном тексте — «равнодушно». Возможно, — правка автора. ***. Р. Стивенсон. Остр[ов] сокровищ. (Прим. А.С. Грина) ****. На полях справа: Дверь, крючок, запоры, окно, сколотила ящик. 5*. Снизу написано: звенья. 6*. На полях справа: Флюгер. Видение. 1. См., например: Н. Мацуев. Художественная литература и критика, русская и переводная 1926—1928 гг. Библиографический указатель. М., 1929, стр. 44; его же. Советская художественная литература и критика. 1938—1948. Библиография. М., 1952, стр. 105; И. Владиславлев. Литература великого десятилетия. М.—Л., 1928, стр. 89; е г о же. Русские писатели. Изд., 4. М.—Л., 1924, стр. 361; Русские советские писатели-прозаики. Библиографический указатель, т. I. Л., 1959, стр. 580—600; Литературно-художественные альманахи и сборники, т. I, II, IV. М., 1958—1959. 2. История русской советской литературы. М., Изд-во АН СССР, 1958, т. I, стр. 75. 3. ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 210, л. 2. Сообщено В.П. Нечаевым. 4. Н.Н. Грин. А.С. Грин. Краткая биография (машинопись). — Отдел рукописей ИМЛИ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 6. 5. См. об этом в предисловии В. Сандлера к публикации рассказа «Заслуга рядового Пантелеева» («Литературная Россия», 1964, № 35, стр. 8). 6. Грин, конечно, не мог прочитать эти рассказы Горького, так как первый из них, «Патруль», был напечатан в Париже (июнь 1906 г.), а второй, «Из повести», — только в 1908 г. в Женеве. 7. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 296. 8. А.С. Грин. Шапка-невидимка. М., 1908. 9. А.С. Грин. Знаменитая книга. Пг., 1915, стр. 131. 10. Там же, стр. 51. 11. Там же, стр. 50. 12. А.С. Грин. История одного убийства. М.—Л., 1926, стр. 93. 13. Там же, стр. 97. 14. А.С. Грин. Шапка-невидимка. М., 1908, стр. 139. 15. Там же, стр. 150. 16. А.С. Грин. История одного убийства. М.—Л., 1926, стр. 98. 17. Там же, стр. 95. 18. А.С. Грин. Шапка-невидимка. М., 1908, стр. 179. 19. Там же, стр. 138. 20. А.С. Грин. Корабли в Лиссе. Л., 1929, стр. 269—270. 21. К. Паустовский. Собр. соч., т. 5. М., 1958, стр. 561. 22. А.С. Грин. Загадочные истории. Пг., 1915, стр. 164. 23. Там же, стр. 53. 24. Там же. 25. Там же, стр. 48. 26. А. Грин. Собр. соч., т. III. Пг., 1915, стр. 192. 27. А.С. Грин. Загадочные истории. Пг., 1915, стр. 49. 28. Там же, стр. 48. 29. Там же, стр. 53. 30. Вл. Орлов. Поэзия Блока. — В кн.: Александр Блок. Стихотворения. Л., 1955, стр. XXXI. 31. М. Бекетова сообщает в биографии Блока: «В Гетари была вилла, с ограды которой свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили мимо нее и видели на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом». (М. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2. Л., 1930, стр. 200—201). 32. Александр Блок. Стихотворения. Л., 1955, стр. 487. 33. Там же, стр. 489. 34. Там же. 35. К. Паустовский. Собр. соч. т. 5. М., 1958, стр. 554. 36. Там же, стр. 569. 37. А. Грин. Собр. соч., т. III. Пг., 1915, стр. 73. 38. Там же, стр. 65. 39. Там же, стр. 92. 40. Там же, стр. 95. 41. Там же, стр. 71. 42. Там же, стр. 87. 43. А.С. Грин. Рассказы, М.—Л., 1923, стр. 170. 44. Там же, стр. 190. 45. Там же, стр. 191. 46. А.С. Грин. История одного убийства. М.—Л., 1926, стр. 28. 47. А.С. Грин. Рассказы. М.—Л., 1923, стр. 300. 48. Там же, стр. 308. 49. Там же, стр. 288. 50. Там же, стр. 310. 51. Там же, стр. 309. 52. А.С. Грин. Рука. — «Биржевые ведомости» (веч. выпуск). 1908, 3 февраля. 53. Там же. 54. «Революция в Петрограде». Альманах. Пг., 1917, стр. 24. 55. А.С. Грин. Возвращение. «Республиканец». Пг., 1917, № 37 и 38, стр. 6. 56. ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 43. 57. Там же, ед. хр. 178. 58. «Всевидящее око» (газ.). 1918, № 1. 59. «Новый Сатирикон», 1914, № 51, стр. 4. 60. «Вместо книги». Литературно-художественное издание. М., 1918, № 1, стр. 3. 61. М. Щеглов. Литературно-критические статьи. М., 1962, стр. 233. 62. А.С. Грин. Рассказы. М.—Л., 1923, стр. 309. 63. А.С. Грин. Избранное. Симферополь, 1959, стр. 19. 64. Ф. Человеков (А. Платонов). Рассказы А. Грина. — «Литературное обозрение», 1938, № 4, стр. 46. 65. А.С. Грин. Избранное. М., 1956, стр. 324. 66. А.С. Грин. Избранное в двух томах. Симферополь, 1926, т. 1, стр. 31. 67. А.С. Грин. Автобиографическая повесть. Л., 1932, стр. 113. 68. «Советская Украина» (Киев), 1960, № 8, стр. 97. 69. Там же. 70. Там же, стр. 98. 71. В середине 30-х годов были опубликованы: «История Дегжа». Отрывок из неопубликованного романа «Недотрога» («30 дней», 1935, № 3) и «Недотрога». Рассказ («Огонек», 1936, № 2—3). |
|
Главная Новости Обратная связь Ссылки
© 2026 Александр Грин.
|