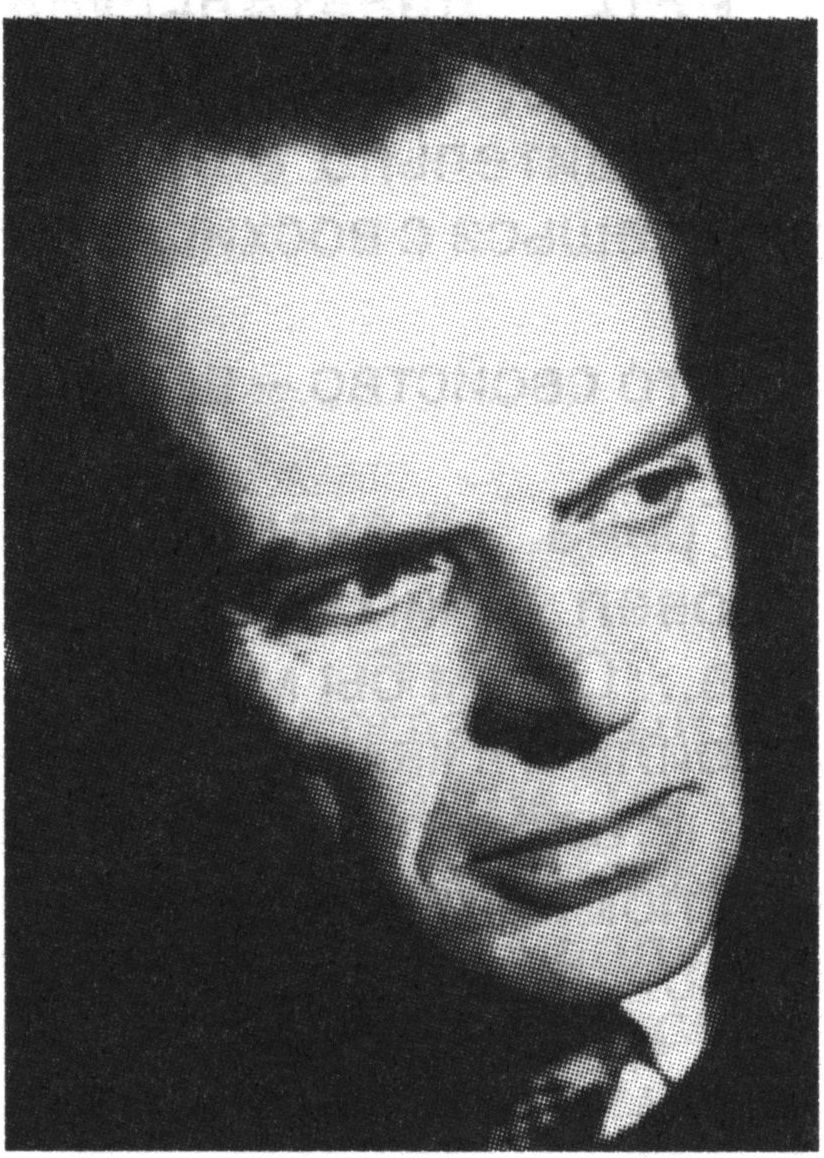|
На правах рекламы: • информация здесь |
Можно ли подражать выдумке?Как это ни покажется странным, но оригинальнейшего, единственного в своем роде писателя-романтика Грина время от времени с завидным упорством упрекали в подражательстве. Уличали по разным поводам и с различными побуждениями, но неизменно — в подражательстве западным образцам: «Звучит, как перевод с иностранного»... «Русский Джек Лондон»... «Русский Эдгар По»... Набирался целый список имен: Жюль Верн, Ф. Купер, Майн-Рид, Г. Уэллс, Стивенсон, Брет-Гарт... Хотя можно было бы, имея в виду фантастический элемент в творчестве, указать также на Пушкина («Руслан и Людмила»), на Гоголя («Нос», «Вий» и др.), на Достоевского. Конечно, художник не вырастает из ничего. В фундаменте любого новаторства лежат кирпичики традиций. Грин хорошо знал и любил перечисленных авторов и не только их. Какие-то влияния, безусловно, присутствуют в его творчестве. Однако самобытность художника, неповторимость его личности надежно гарантируют от «впадания» в подражательство. Можно писать в одно время и ставить одни проблемы, как, скажем, проблема «отцов и детей» у Тургенева и Гончарова — книги их будут различны. (Правда, в упомянутом случае Гончаров обижался на Тургенева и даже укорял в разработке его, Гончарова, замыслов, что было, конечно, несправедливо).
Стендалю принадлежит афоризм: «Я беру свое всюду, где его нахожу». Так имел право сказать самобытный художник. Вопрос о «влияниях» сложен и в каждом случае требует специального исследования. Что касается творчества Грина-романтика, то на упрек в подражательстве очень ярко ответил Ю. Олеша: «Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они». Олеша говорит о выдумке как о редком писательском свойстве: «Это писатели-уники. Их очень мало было на земле». Сам Грин восхищался Эдгаром По, любил его. «Я хотел бы иметь талант, равный его таланту, и силу его воображения, но я не Эдгар По. Я — Грин: у меня свое лицо». Он уточняет: «Мы вытекаем из одного источника — великой любви к искусству, жизни, слову, но течем в разных направлениях. В наших интонациях иногда звучит общее, остальное все разное — жизненные установки различны».
В самом деле, мистически-необъяснимое у Эдгара По часто находится на грани тяжелого кошмара («Маска красной смерти», «Падение дома Эшеров»), колорит его вещей мрачен, вызывает чувство подавленности, одиночество героев трагично («Человек толпы»). В некоторых рассказах Грина можно найти общее в интонациях («Серый автомобиль», «Фанданго»), но Грин, которого мы знаем, другой. Его душа выражена в тональности «Бегущей по волнам», «Алых парусов», «Золотой цепи». Так можно ли все-таки «подражать выдумке»? Ю. Олеша, вопреки собственному утверждению, попробовал это сделать. В рассказе «Любовь» (1929 год) у него тоже появился «летающий человек», московский студент Шувалов: «Он взмыл, толстовка превратилась в кринолин, на губе появилась лихорадка, он летел, прищелкивая пальцами...»
Конечно, то, что у Грина звучало глубоко серьезно, даже трагично, здесь — условный прием, буффонада. Написано хорошо, но по-другому. Это уже — Юрий Олеша. Гриновская иллюзия волшебного действа исчезла. Выдумке подражать и в самом деле нельзя. Вернее сказать, нельзя подражать неповторимой личности автора. Примечательно в этом смысле «влияние», испытанное К. Паустовским. Юноша-гимназист был потрясен, прочитав неизвестного ему Грина. Впечатление осталось надолго, если не навсегда. Начав с откровенного подражания Грину в своих ранних вещах, Паустовский всю жизнь, можно сказать, держал его в своем сердце. В разной среде он то и дело вспоминает о Грине. Раздумья отозвались образом Грина в повести «Черное море»: «Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах. Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии». Константин Георгиевич Паустовский Гарт — не портрет Грина, это еще один тип романтика. «Живой анахронизм» вначале, он уходит из повести, обращенный лицом к своему времени. То же, по Паустовскому, должно было случиться с Грином, поживи он подольше. Кажется, что Паустовский в своих вещах время от времени «примеривал» Грина к новым условиям и обстоятельствам, пробовал рассмотреть его «улучшенного». Любопытна в этом смысле маленькая повесть Паустовского «Созвездие Гончих Псов». Есть сведения, что автор использовал здесь свои крымские впечатления, в частности, знакомство с Симеизской астрофизической обсерваторией. Но из самого текста об этом не очень-то догадаешься. По-гриновски необычны, «иностранны» имена героев; наступающие на обсерваторию солдаты — это все-таки солдаты «вообще», как и профессор, и другие ученые. Но в повести вдруг вырисовывается новый, недвусмысленный элемент, современный автору и читателю: гражданская война в Испании. Выясняется, что обсерватория эта — французская, расположенная в испанских Пиринеях, и, казалось бы, отвлеченное, с «гриновским» сюжетом повествование обретает вполне злободневную реалистическую окраску.
С трудом созданная условность тут же нарушена... В повести возникла какая-то нарочитость, неестественность. «Улучшения» метода не получилось. В рамках конкретной задачи волшебное гриновское видеозеркало отказывало. Требовалась иная техника. Ее вырабатывали, каждый по-своему, уже другие художники, в том числе и К. Паустовский, с его особым романтическим почерком, конечно же, не похожим на почерк создателя «Алых парусов».
|
|
Главная Новости Обратная связь Ссылки
© 2026 Александр Грин.
|